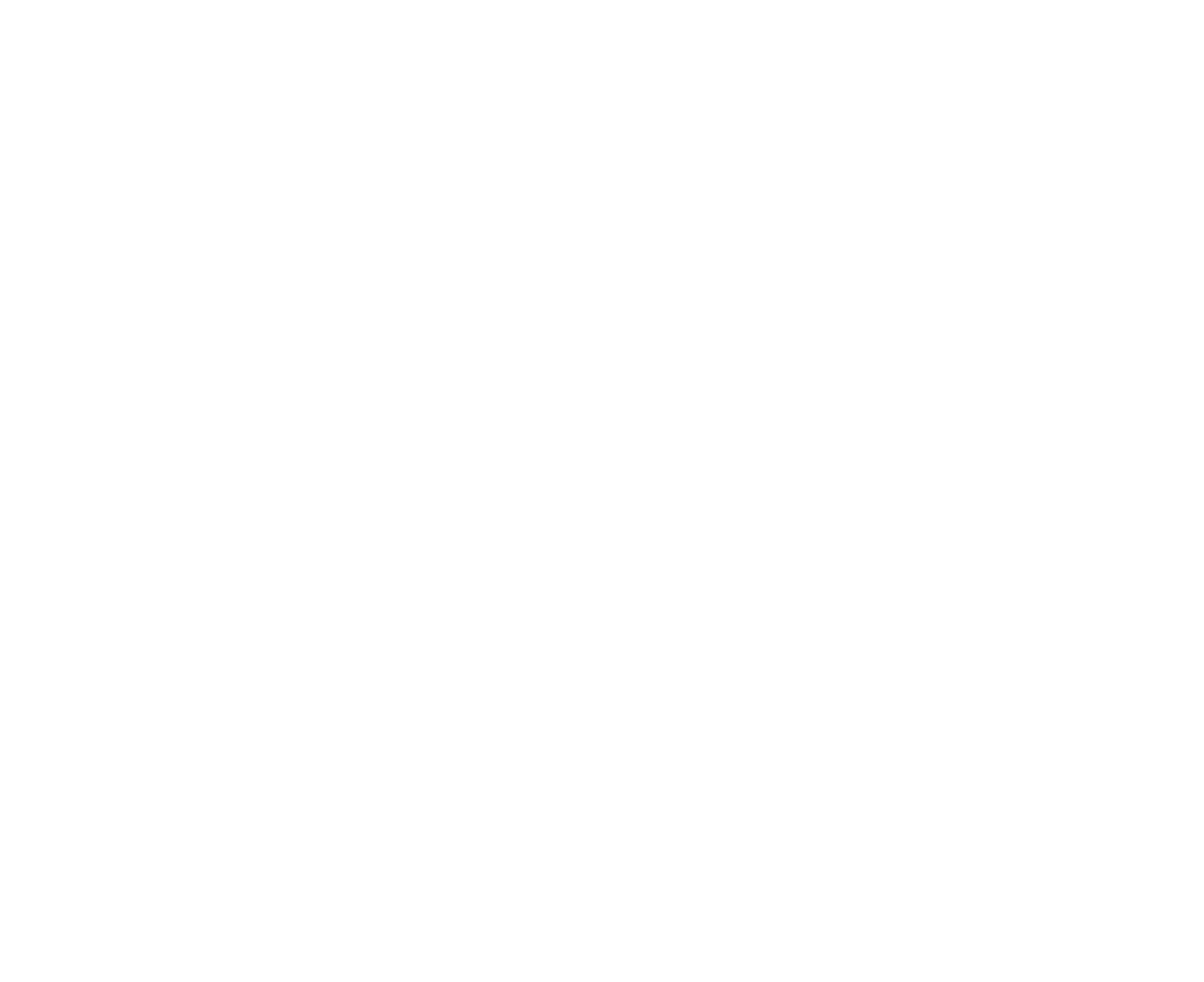«Проходимец»
Максим Горький
«…Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стёкла пальцем и провозглашал:
– Пустите прохожего ночевать?!
В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к чёрту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого – молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:
– Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома…
Я понял её так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа…»
Максим Горький
Проходимец
I. Встреча с ним
…Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стёкла пальцем и провозглашал:
– Пустите прохожего ночевать?!
В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к чёрту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого – молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:
– Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома…
Я понял её так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа…
Пожалев, что он дома, я пошёл к следующему окну.
– Добрые люди! Пустите прохожего ночевать?!
Мне ласково ответили:
– Иди с богом – дальше!
А погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал ещё много невесёлых звуков, нарушая скорбной музыкой тёмную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут – осень, люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать.
Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и, наконец, уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы, – хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжёлой тьме.
Но вот я вижу, что в трёх шагах от меня возвышается что-то большое и ещё более тёмное, чем тьма. Догадываюсь – это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях; между полом магазина и землёй есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться, – стоит только лечь на живот и проползти туда.
Очевидно, судьба хотела, чтобы я провёл эту ночь не под крышей, а под полом.
Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздаётся спокойно предупреждающий голос:
– Держите левее, почтенный…
Это было поистине неожиданно.
– Кто тут? – спросил я.
– Человек… с палкой!..
– Палка и у меня есть…
– А спички есть?
– И спички.
– Вот хорошо!
Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.
– А что, в деревне не пускают ночевать? – спросил невидимый голос.
– Не пускают, – сказал я.
– И меня тоже не пустили…
Это было ясно, – если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтоб выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден богу, но всё-таки я решил крепко держать в руке мою палку.
– Не пустили, черти! – повторил голос. – Дубьё! В хорошую погоду пускают, а вот в такую – хоть реви!
– А вы куда идёте? – спросил я.
– В… Николаев. А вы?
Я сказал куда.
– Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю.
Спички отсырели; я очень долго и нетерпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот, наконец, вспыхнул маленький огонёк, – из тьмы выглянуло бледное лицо в чёрной бороде.
Большие, умные глаза с усмешкой посмотрели на меня, потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:
– Хотите курить?
Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете её ещё раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:
– Ну, нам, кажется, можно не стесняться, – берите папиросу!
У него в зубах была другая – разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом.
Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан верёвкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи – «поршни», как их зовут на Дону.
– Странник? – спросил я.
– Пешешествую. Вы?
– Тоже.
Он завозился, брякнуло что-то металлическое, – очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам; но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдаёт странника, в его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность, и пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов «от писания». Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой «бродячей Руси», – худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же и шёл он на Николаев, где нет мощей…
– А откуда шагаете? – спросил я.
– Из Астрахани…
В Астрахани тоже нет мощей. Тогда я спросил его:
– Значит, вы от «моря до моря» ходите, а не по святым местам?
– И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место? Там всегда хорошо кормят… особенно, если со мнихами в интимность вступить. Наш брат Исакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчёт этого?
– Пользуюсь.
– Кормовые места. А откуда идёте? Ага! Путина протяжённая. Запаливайте спичку, – ещё покурим. Когда куришь, как будто теплее становится…
Было действительно холодно: и от ветра, который нахально врывался к нам, и от мокрой одежды.
– Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны… дать?
– Ворону? – спросил я с любопытством.
– А вы их не едите? Напрасно…
Он сунул мне большую краюху хлеба.
– Я не пробовал ворон…
– Нате, попробуйте. Осенью они вкусные. И потом – гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданные тебе рукой ближнего из окна дома его… который всегда, после того, как примешь милостыню, – хочется поджечь!..
Это он резонно говорил, резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления: я знал, что в Одессе зимой «раклы» едят крыс, в Ростове – улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь, а есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении.
– А как же вы ловите ворон? – осведомился я.
– Не ртом, конечно. Их можно убивать палкой или камнем, но вернее – удить! Нужно привязать на конец длинной бечёвки кусок сала, мяса или корку хлеба. Ворона схватит, проглотит и – тащи её! Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром.
– Хорошо бы теперь посидеть у костра! – вздохнул я.
Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб: он с таким болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порою вместе с ним прилетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.
– Скучно лежать молча!.. – сказал мой соночлежник.
– А говорить – холодно, – заметил я.
– А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется!
– Спасибо за совет…
– Вместе, что ли, пойдём? Нам по дороге…
– Пойдёмте!
– Так познакомимся… я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов…
Отрекомендовался и я.
– Ну-с, так вот! Теперь спрошу: вы как попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?
– От скуки жизни…
– И это возможно… А вы знаете одно сенатское издание, именуемое: «Справки о судимости»?
– Знаю…
– Ваше имя там напечатано?
Я в то время ещё нигде не печатался, о чём и заявил ему.
– И я тоже не пропечатан…
– Но надеетесь?
– Всё в руце божией!
– А вы, кажется, весёлый человек?
– О чём горевать?!
– Не всякий скажет это, будучи в вашем положении, – усомнился я в искренности его слов.
– Положение – сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Взойдёт солнце – ведь оно взойдёт? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедим, согреемся… Разве плохо?
– Хорошо! – согласился я.
– Пустите прохожего ночевать?!
В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к чёрту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого – молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:
– Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома…
Я понял её так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа…»
Максим Горький
Проходимец
I. Встреча с ним
…Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стёкла пальцем и провозглашал:
– Пустите прохожего ночевать?!
В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к чёрту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого – молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:
– Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома…
Я понял её так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа…
Пожалев, что он дома, я пошёл к следующему окну.
– Добрые люди! Пустите прохожего ночевать?!
Мне ласково ответили:
– Иди с богом – дальше!
А погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал ещё много невесёлых звуков, нарушая скорбной музыкой тёмную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут – осень, люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать.
Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и, наконец, уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы, – хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжёлой тьме.
Но вот я вижу, что в трёх шагах от меня возвышается что-то большое и ещё более тёмное, чем тьма. Догадываюсь – это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях; между полом магазина и землёй есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться, – стоит только лечь на живот и проползти туда.
Очевидно, судьба хотела, чтобы я провёл эту ночь не под крышей, а под полом.
Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздаётся спокойно предупреждающий голос:
– Держите левее, почтенный…
Это было поистине неожиданно.
– Кто тут? – спросил я.
– Человек… с палкой!..
– Палка и у меня есть…
– А спички есть?
– И спички.
– Вот хорошо!
Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.
– А что, в деревне не пускают ночевать? – спросил невидимый голос.
– Не пускают, – сказал я.
– И меня тоже не пустили…
Это было ясно, – если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтоб выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден богу, но всё-таки я решил крепко держать в руке мою палку.
– Не пустили, черти! – повторил голос. – Дубьё! В хорошую погоду пускают, а вот в такую – хоть реви!
– А вы куда идёте? – спросил я.
– В… Николаев. А вы?
Я сказал куда.
– Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю.
Спички отсырели; я очень долго и нетерпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот, наконец, вспыхнул маленький огонёк, – из тьмы выглянуло бледное лицо в чёрной бороде.
Большие, умные глаза с усмешкой посмотрели на меня, потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:
– Хотите курить?
Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете её ещё раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:
– Ну, нам, кажется, можно не стесняться, – берите папиросу!
У него в зубах была другая – разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом.
Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан верёвкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи – «поршни», как их зовут на Дону.
– Странник? – спросил я.
– Пешешествую. Вы?
– Тоже.
Он завозился, брякнуло что-то металлическое, – очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам; но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдаёт странника, в его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность, и пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов «от писания». Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой «бродячей Руси», – худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же и шёл он на Николаев, где нет мощей…
– А откуда шагаете? – спросил я.
– Из Астрахани…
В Астрахани тоже нет мощей. Тогда я спросил его:
– Значит, вы от «моря до моря» ходите, а не по святым местам?
– И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место? Там всегда хорошо кормят… особенно, если со мнихами в интимность вступить. Наш брат Исакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчёт этого?
– Пользуюсь.
– Кормовые места. А откуда идёте? Ага! Путина протяжённая. Запаливайте спичку, – ещё покурим. Когда куришь, как будто теплее становится…
Было действительно холодно: и от ветра, который нахально врывался к нам, и от мокрой одежды.
– Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны… дать?
– Ворону? – спросил я с любопытством.
– А вы их не едите? Напрасно…
Он сунул мне большую краюху хлеба.
– Я не пробовал ворон…
– Нате, попробуйте. Осенью они вкусные. И потом – гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданные тебе рукой ближнего из окна дома его… который всегда, после того, как примешь милостыню, – хочется поджечь!..
Это он резонно говорил, резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления: я знал, что в Одессе зимой «раклы» едят крыс, в Ростове – улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь, а есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении.
– А как же вы ловите ворон? – осведомился я.
– Не ртом, конечно. Их можно убивать палкой или камнем, но вернее – удить! Нужно привязать на конец длинной бечёвки кусок сала, мяса или корку хлеба. Ворона схватит, проглотит и – тащи её! Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром.
– Хорошо бы теперь посидеть у костра! – вздохнул я.
Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб: он с таким болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порою вместе с ним прилетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.
– Скучно лежать молча!.. – сказал мой соночлежник.
– А говорить – холодно, – заметил я.
– А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется!
– Спасибо за совет…
– Вместе, что ли, пойдём? Нам по дороге…
– Пойдёмте!
– Так познакомимся… я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов…
Отрекомендовался и я.
– Ну-с, так вот! Теперь спрошу: вы как попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?
– От скуки жизни…
– И это возможно… А вы знаете одно сенатское издание, именуемое: «Справки о судимости»?
– Знаю…
– Ваше имя там напечатано?
Я в то время ещё нигде не печатался, о чём и заявил ему.
– И я тоже не пропечатан…
– Но надеетесь?
– Всё в руце божией!
– А вы, кажется, весёлый человек?
– О чём горевать?!
– Не всякий скажет это, будучи в вашем положении, – усомнился я в искренности его слов.
– Положение – сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Взойдёт солнце – ведь оно взойдёт? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедим, согреемся… Разве плохо?
– Хорошо! – согласился я.
– Ну вот видите! Всё дурное имеет свои хорошие стороны…
– Всё хорошее – свои дурные…
– Аминь! – тоном диакона возгласил Промтов.
Ей-богу, с ним весело! Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним.
Пока мы беседовали, дождь перестал, тьма незаметно начала таять; уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась, и свежесть утра – приятная и бодрящая, когда она застаёт человека одетым в сухое и тёплое платье.
– Не найдём ли мы тут чего-нибудь для костра? – спросил Промтов.
Ползая по земле, мы поискали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к своему месту. Отодрав, превратили её в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли провертеть дыру в полу магазина, дабы достать зёрен ржи, – ибо, если рожь сварить в воде, – получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно: мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтоб взять её два-три фунта.
– А вам какое до этого дело? – спросил Промтов.
– Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности…
– Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя! И нужно только потому, что она для всякого другого – чужая…
Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности и что приятность знакомства с ним, наверное, имеет свои неудобства.
Явилось солнце, весёлое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зелёной извилистой ленте деревьев вдали от нас.
– Там – река, – сказал мой знакомый.
Я смотрел на него и думал, что ему, должно быть, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, тёмные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твёрдой и спорой походке, в ранце из кожи, ловко прикреплённом на спине, во всей его фигуре видна была привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья сноровка.
– Пойдём мы с вами так, – говорил он: – сейчас за рекой, верстах в шести, будет село Манжелея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички… Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о писании с ними – ни слова! Они сами в писании, как дома…
Мы выбрали себе место недалеко от группы осокорей, набрали камней на берегу речонки, мутной от дождя, и на камнях развели костёр. Верстах в двух от нас на возвышенности стояла деревня, солома её крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени.
Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые и багряные цвета листвы и нежно-голубое небо между нею.
– Я буду купаться, – объявил Промтов. – Это необходимо после такой скверной ночи.
Советую и вам. А пока мы освежимся – чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо.
Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И, когда я увидал его обнажённым, грязные лохмотья, сброшенные им с себя, показались мне более гнусными, чем казались до сей поры… Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наше платье, согретое у костра. Потом сели к огню пить чай.
У Промтова была железная кружка; он налил в неё кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но чёрт, который всегда готов посмеяться над человеком, дёрнул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил:
– Спасибо! Пейте сначала вы, я подожду!
Я сказал это в твёрдой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мною в великодушии и вежливости, – тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал:
– Ну, хорошо…
И поднёс кружку к своему рту.
Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его тёмные глаза. А он прихлёбывал чай, жевал хлеб, вкусно чмокая губами, и делал всё это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали, я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.
– Что, – засмеялся Промтов, – невыгодно деликатничать-то?
– Увы! – сказал я.
– Ну и прекрасно! Учитесь… Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно?
Ведь хотя и говорят, что все люди – братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками…
– Уж будто вы именно так думаете?
– А чего ради я говорил бы не так, как думаю?
– Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был…
– Не пойму я, чем вызвал у вас такое недоверие ко мне!.. – пожал плечами этот волк. – Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своём месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни…
– И мне тоже этого хочется… Скажите мне: кто и что вы? – спросил я у него.
Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:
– Человек никогда точно не знает, кто он… Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает.
– Хотя бы так!
– Ну… думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я – широк…
Может быть, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри их живёт тревожный зуд желания чего-то нового… Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу, и от этого всегда не удовлетворены, несчастны, крупных ничто не удовлетворяет – ни деньги, ни женщины, ни почёт… Таких людей не любят: они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство ближних – пятачки, ходовая монета… и вся разница между ними только в годах чеканки. Этот – стёрт, тот – поновее, но цена им одна, материал их одинаков, и во всём они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак, – хотя, может быть, я семишник… Вот и всё!
Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство, я решил идти за ним, пока не узнаю, – кто он? Было ясно, что это так называемый «интеллигентный человек». Их много среди бродяг, все они – мёртвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишённые способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днём своей жизни падают всё ниже в грязь и гадость; потом растворяются в ней и исчезают из жизни.
Но у Промтова было что-то твёрдое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.
– Ну что же? Идём? – предложил он.
– Идём!
Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по её течению.
– А вы как добываете пропитание? – спросил я Промтова. – Работаете?
– Ра-аботаю? Нет, я до этого не охотник…
– Но как же?
– А – вот увидите!
Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то весёлую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твёрдо, как человек, идущий к цели.
Я смотрел на него, и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне.
…Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на неё она, пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону, как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточённо лая. Выбегали её подруги, но они не отличались таким усердием: тявкнут раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, ещё более возбуждало рыжую собачонку.
– Видите, какая подлая натура? – сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку.
– И ведь лжёт она, понимает, что лаять не нужно, она не зла – она труслива, но – желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей… Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами…
– Благодарю, – сказал я.
– Не на чем. Однако мне нужно пострелять…
На его выразительном лице явилась скорбная мина, глаза стали глупыми, весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нём встали стоймя, как плавники ерша.
– Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе, – объяснил он мне своё превращение и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребёнка. Промтов поклонился ей и просительно сказал:
– Ненько моя! А дайте ж странним людям хлеба!
– Не прогневайтеся! – ответила женщина, окинув нас подозрительным взглядом.
– Чтоб у тебя в грудях спёрло, суча дочка, – сурово пожелал ей мой спутник.
Женщина взвизгнула, как ужаленная, и бросилась к нам.
– Ах вы…
Промтов, не двигаясь с места, смотрел ей в лицо своими чёрными глазами, и выражение их было дико и зловеще… Баба побледнела, вздрогнула и, что-то пробормотав, быстро пошла в хату.
– Идёмте, – предложил я Промтову.
– А вот подождём, пока она вынесет хлеба…
– Она вышлет на нас мужа с вилами.
– Много вы понимаете, – скептически усмехнулся этот волк.
Он был прав, – женщина явилась перед нами, держа в руках полкаравая хлеба и солидный шматок сала. Молча и низко поклонившись Промтову, она просительно сказала ему:
– Пожалуйте, возьмите, человече божий, не гневайтесь…
– Спаси тебя боже от злого ока, от ворожбы и трясци!.. – внушительно напутствовал её Промтов. И мы пошли…
– Послушайте, – сказал я, когда мы были уже далеко от хаты, – что это у вас какой странный… чтобы не сказать более, способ прошения?
– Самый верный… Если на бабу стрельнуть хорошенько глазами – она примет за колдуна, испугается и не только хлеба – всю мужнину «кишеню» целиком отдаст. Для чего мне просить и унижаться пред ней, когда я могу приказать? Я всегда думал, что лучше вырвать, чем выпросить…
– А не случалось, что вам вместо хлеба…
– По шее давали? Нет. Сунься-ка ко мне! У меня, батенька, есть с собой магическая бумажка – стоит мне её показать мужику, и он – раб мой… Хотите, покажу?
Я держал в своих руках эту довольно грязную и измятую бумажку и видел: это было проходное свидетельство, выданное Павлу Игнатьеву Промтову, высланному административным порядком из Петербурга, для следования из Астрахани в Николаев. На бумажке была печать астраханского полицейского правления и соответствующие подписи, – всё как следует…
– Не понимаю! – сказал я, возвращая этот документ в руки собственника. – Каким это случаем вы, высланный из Петербурга, следуете из Астрахани?
Он рассмеялся, всей своей фигурой выражая сознание своего превосходства надо мной.
– А очень просто! Подумайте – меня высылают из Петербурга и, высылая, мне предлагают выбрать – за известными исключениями – место жительства. Я называю. Курск, скажем к примеру. Являюсь в Курск, иду в полицию… Честь имею представиться! Курская полиция не может принять меня любезно: у неё своих хлопот – полон рот. Она предполагает, что пред ней ловкий мазурик, если от него не могли избавиться по силе и при помощи статей закона, а должны были, для его искоренения, прибегнуть к административным мерам. И она всегда рада сбыть меня куда-нибудь – хоть в омут головой! Видя её затруднения, я прихожу к ней на помощь. «Так как, говорю я, я сам избирал место жительства, то не пожелаете ли вы, чтоб я и ещё раз избрал его?» Они рады скачать меня с шеи. Я и говорю, что готов уйти из круга их попечения о неприкосновенности личностей и имущества, но мне, за мою любезность, следует дать на дорогу. Они дают рублей пять, десять, больше и меньше, смотря по настроению и характеру, – всегда дают с удовольствием. Лучше потерять пять целковых, чем приобрести в лице моём лишнее беспокойство, – не так ли?
– Может быть, – сказал я.
– Да уж – именно так! И они снабжают меня бумажкой, совершенно не похожей на паспорт.
В различии же этой бумажки с паспортом и заключается её магическая сила. На ней написано:
«Адми-ни-стра-тивно высланному из Пе-те-рбу-рга»! Я показываю её старосте, который, по обыкновению, глуп, как пень, он в ней ни дьявола не понимает. Он боится её: на ней печати.
Я говорю ему: «На основании этой бумаги ты должен дать мне ночлег». Он даёт. «Должен накормить меня!» Он кормит. Иначе он не может, потому что в бумаге изображено – из Петербурга, административно! Чёрт знает, что оно такое – «административно»? Может быть, это значит: послан тайно для расследования насчёт кустарных промыслов, подделки фальшивой монеты, тайного винокурения, тайной продажи питий? Или насчёт того – как усердно посещают православную церковь?.. А может быть, что-нибудь касательно земли? Кто разберёт, что такое значит – административно? Может быть, я кто-нибудь переряженный?.. Мужик глуп, что он понимает?
– Да, он мало понимает, – заметил я.
– И это очень хорошо! – убеждённо заявил Промтов. – Именно таким он и должен быть, и в таком лишь виде он и необходим для всех, как воздух. Ибо – что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь – съедобное животное. Например, – я! Разве возможно было бы мне пребывание на земле без мужика? Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик!
– А земля?
– Был бы мужик – земля будет! Стоит ему приказать: «Эй ты! Сотвори землю!» И – бысть земля. Он не может ослушаться…
Любил говорить этот весёлый пройдоха! Мы давно уже вышли из села, прошли мимо многих хуторов, и уже снова пред нами стояла деревня, вся утопавшая в оранжевой листве осени.
Промтов болтал – весёлый, как чиж, а я слушал и думал о новом для меня виде паразита, разъедающего мужицкое призрачное благосостояние…
– Послушайте-ка! – вдруг вспомнил я одно обстоятельство. – Мы встретились с вами при таких условиях, которые заставляют меня сильно усомниться в силе вашей бумажки… это как объяснить?
– Э! – усмехнулся Промтов. – Очень просто: я уже проходил по сим местам, а – не всегда, знаете, удобно напоминать о себе…
Его откровенность нравилась мне. Я внимательно вслушивался в развязную болтовню моего спутника, пытаясь определить, таков ли он, каким себя рисует?
– Вот пред нами деревня, – желаете, я покажу вам действие моей бумажки? – предложил Промтов.
Я отказался от этого опыта, предложив ему лучше рассказать мне, за что именно его наградили бумажкой?..
– Ну, это, знаете ли, длинная история! – махнул он рукой. – Но я расскажу – когда-нибудь. А пока что – давайте отдохнём и закусим. Пищевой снаряд у нас есть в достаточном количестве, значит, идти в деревню и беспокоить ближнего нам пока не требуется.
Отойдя в сторону от дороги, мы уселись на землю и стали есть. Потом, разленившись под тёплыми лучами солнца и дуновением мягкого ветра степи, улеглись и заснули… А когда проснулись, солнце, багровое и большое, уже было на горизонте, и на степь ложились тени южного вечера.
– Ну, вот видите, – объявил Промтов, – судьбе угодно, чтоб мы заночевали в этой деревушке…
– Пойдёмте, пока ещё светло, – предложил я.
– Не бойтесь! Сегодня ночуем под кровом…
Он был прав: в первой же хате, куда мы толкнулись с просьбой о ночлеге, нас гостеприимно пригласили войти.
Хозяин хаты, крупный и добродушный «чоловiк», только что приехал с поля, его «жiнка» готовила «вечеряти». Четверо чумазых ребятишек, сбившись в кучу в углу хаты, смотрели оттуда любопытными и робкими глазами. Дородная «жiнка» быстро и молча металась из хаты в сени и обратно, внося хлеб, кавуны, молоко. Хозяин сидел против нас на лавке и сосредоточенно тёр себе поясницу, кидая на нас вопрошающие взгляды.
Вскоре с его стороны последовал обычный вопрос:
– Где ж вы идёте?
– Ходим, добрый человек, о́т моря до́ моря, до Киева города!.. – бойко отвечал Промтов словами старой колыбельной песни.
– Чего ж там, у Киеви? – подумав, спросил человек.
– А – святые мощи?
Хозяин посмотрел на Промтова и молча сплюнул. Потом, после паузы, спросил:
– А видкиля и́дете?
– Я – из Петербурга, он – из Москвы, – отвечал Промтов.
– От що? – поднял брови хохол. – А що этот Петербург? Кажуть люди, що вiн на морi построен… и що его заливае…
Дверь отворилась, и явилось двое хохлов…
– А мы до тебе, Михайло! – объявил один из них.
– Що ж вы до мене?
– Та воно – таке дiло… Що се за люди?
– Ось цеи? – спросил хозяин, кивая на нас головой.
– Эге ж!
Хозяин помолчал, подумав и покрутив головой, объявил:
– Хиба ж я знаю?
– Мабудь, вы странники? – спросили у нас.
– Эге! – ответил Промтов.
Воцарилось молчание. Три хохла рассматривали нас упорно, подозрительно, любопытно…
Наконец, все уселись за стол и начали с треском уничтожать кроваво-красные кавуны…
– Мабудь, который из вас есть письменный? – обратился к Промтову один из хохлов.
– Оба, – кратко ответил Промтов.
– Так не знаете ли вы, часом, що треба делать чоловiку, як в него хребет ноет и зудит до то́го, что ночью и спати не можно?
– Знаем! – объявил Промтов.
– А що?
Промтов долго жевал хлеб, потом вытирал руки о свои лохмотья, потом задумчиво смотрел в потолок и, наконец, решительно и даже сурово заговорил:
– Нарвать крапивы и велеть бабе на ночь тою крапивой растереть хребет, а потом смазать его конопляным маслом с солью…
– Что ж с того буде? – осведомился хохол.
– А – ничего не будет, – пожал плечами Промтов.
– Ничого?
– Как есть ничего!
– А поможеть воно?
– Поможет…
– Спытаю… Спасибо вам…
– На здоровьечко! – пожелал Промтов совершенно серьёзно.
Долгое молчание, хруст кавунов, шёпот детей…
– Всё хорошее – свои дурные…
– Аминь! – тоном диакона возгласил Промтов.
Ей-богу, с ним весело! Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним.
Пока мы беседовали, дождь перестал, тьма незаметно начала таять; уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась, и свежесть утра – приятная и бодрящая, когда она застаёт человека одетым в сухое и тёплое платье.
– Не найдём ли мы тут чего-нибудь для костра? – спросил Промтов.
Ползая по земле, мы поискали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к своему месту. Отодрав, превратили её в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли провертеть дыру в полу магазина, дабы достать зёрен ржи, – ибо, если рожь сварить в воде, – получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно: мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтоб взять её два-три фунта.
– А вам какое до этого дело? – спросил Промтов.
– Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности…
– Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя! И нужно только потому, что она для всякого другого – чужая…
Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности и что приятность знакомства с ним, наверное, имеет свои неудобства.
Явилось солнце, весёлое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зелёной извилистой ленте деревьев вдали от нас.
– Там – река, – сказал мой знакомый.
Я смотрел на него и думал, что ему, должно быть, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, тёмные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твёрдой и спорой походке, в ранце из кожи, ловко прикреплённом на спине, во всей его фигуре видна была привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья сноровка.
– Пойдём мы с вами так, – говорил он: – сейчас за рекой, верстах в шести, будет село Манжелея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички… Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о писании с ними – ни слова! Они сами в писании, как дома…
Мы выбрали себе место недалеко от группы осокорей, набрали камней на берегу речонки, мутной от дождя, и на камнях развели костёр. Верстах в двух от нас на возвышенности стояла деревня, солома её крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени.
Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые и багряные цвета листвы и нежно-голубое небо между нею.
– Я буду купаться, – объявил Промтов. – Это необходимо после такой скверной ночи.
Советую и вам. А пока мы освежимся – чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо.
Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И, когда я увидал его обнажённым, грязные лохмотья, сброшенные им с себя, показались мне более гнусными, чем казались до сей поры… Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наше платье, согретое у костра. Потом сели к огню пить чай.
У Промтова была железная кружка; он налил в неё кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но чёрт, который всегда готов посмеяться над человеком, дёрнул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил:
– Спасибо! Пейте сначала вы, я подожду!
Я сказал это в твёрдой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мною в великодушии и вежливости, – тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал:
– Ну, хорошо…
И поднёс кружку к своему рту.
Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его тёмные глаза. А он прихлёбывал чай, жевал хлеб, вкусно чмокая губами, и делал всё это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали, я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.
– Что, – засмеялся Промтов, – невыгодно деликатничать-то?
– Увы! – сказал я.
– Ну и прекрасно! Учитесь… Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно?
Ведь хотя и говорят, что все люди – братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками…
– Уж будто вы именно так думаете?
– А чего ради я говорил бы не так, как думаю?
– Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был…
– Не пойму я, чем вызвал у вас такое недоверие ко мне!.. – пожал плечами этот волк. – Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своём месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни…
– И мне тоже этого хочется… Скажите мне: кто и что вы? – спросил я у него.
Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:
– Человек никогда точно не знает, кто он… Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает.
– Хотя бы так!
– Ну… думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я – широк…
Может быть, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри их живёт тревожный зуд желания чего-то нового… Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу, и от этого всегда не удовлетворены, несчастны, крупных ничто не удовлетворяет – ни деньги, ни женщины, ни почёт… Таких людей не любят: они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство ближних – пятачки, ходовая монета… и вся разница между ними только в годах чеканки. Этот – стёрт, тот – поновее, но цена им одна, материал их одинаков, и во всём они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак, – хотя, может быть, я семишник… Вот и всё!
Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство, я решил идти за ним, пока не узнаю, – кто он? Было ясно, что это так называемый «интеллигентный человек». Их много среди бродяг, все они – мёртвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишённые способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днём своей жизни падают всё ниже в грязь и гадость; потом растворяются в ней и исчезают из жизни.
Но у Промтова было что-то твёрдое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.
– Ну что же? Идём? – предложил он.
– Идём!
Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по её течению.
– А вы как добываете пропитание? – спросил я Промтова. – Работаете?
– Ра-аботаю? Нет, я до этого не охотник…
– Но как же?
– А – вот увидите!
Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то весёлую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твёрдо, как человек, идущий к цели.
Я смотрел на него, и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне.
…Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на неё она, пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону, как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточённо лая. Выбегали её подруги, но они не отличались таким усердием: тявкнут раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, ещё более возбуждало рыжую собачонку.
– Видите, какая подлая натура? – сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку.
– И ведь лжёт она, понимает, что лаять не нужно, она не зла – она труслива, но – желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей… Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами…
– Благодарю, – сказал я.
– Не на чем. Однако мне нужно пострелять…
На его выразительном лице явилась скорбная мина, глаза стали глупыми, весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нём встали стоймя, как плавники ерша.
– Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе, – объяснил он мне своё превращение и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребёнка. Промтов поклонился ей и просительно сказал:
– Ненько моя! А дайте ж странним людям хлеба!
– Не прогневайтеся! – ответила женщина, окинув нас подозрительным взглядом.
– Чтоб у тебя в грудях спёрло, суча дочка, – сурово пожелал ей мой спутник.
Женщина взвизгнула, как ужаленная, и бросилась к нам.
– Ах вы…
Промтов, не двигаясь с места, смотрел ей в лицо своими чёрными глазами, и выражение их было дико и зловеще… Баба побледнела, вздрогнула и, что-то пробормотав, быстро пошла в хату.
– Идёмте, – предложил я Промтову.
– А вот подождём, пока она вынесет хлеба…
– Она вышлет на нас мужа с вилами.
– Много вы понимаете, – скептически усмехнулся этот волк.
Он был прав, – женщина явилась перед нами, держа в руках полкаравая хлеба и солидный шматок сала. Молча и низко поклонившись Промтову, она просительно сказала ему:
– Пожалуйте, возьмите, человече божий, не гневайтесь…
– Спаси тебя боже от злого ока, от ворожбы и трясци!.. – внушительно напутствовал её Промтов. И мы пошли…
– Послушайте, – сказал я, когда мы были уже далеко от хаты, – что это у вас какой странный… чтобы не сказать более, способ прошения?
– Самый верный… Если на бабу стрельнуть хорошенько глазами – она примет за колдуна, испугается и не только хлеба – всю мужнину «кишеню» целиком отдаст. Для чего мне просить и унижаться пред ней, когда я могу приказать? Я всегда думал, что лучше вырвать, чем выпросить…
– А не случалось, что вам вместо хлеба…
– По шее давали? Нет. Сунься-ка ко мне! У меня, батенька, есть с собой магическая бумажка – стоит мне её показать мужику, и он – раб мой… Хотите, покажу?
Я держал в своих руках эту довольно грязную и измятую бумажку и видел: это было проходное свидетельство, выданное Павлу Игнатьеву Промтову, высланному административным порядком из Петербурга, для следования из Астрахани в Николаев. На бумажке была печать астраханского полицейского правления и соответствующие подписи, – всё как следует…
– Не понимаю! – сказал я, возвращая этот документ в руки собственника. – Каким это случаем вы, высланный из Петербурга, следуете из Астрахани?
Он рассмеялся, всей своей фигурой выражая сознание своего превосходства надо мной.
– А очень просто! Подумайте – меня высылают из Петербурга и, высылая, мне предлагают выбрать – за известными исключениями – место жительства. Я называю. Курск, скажем к примеру. Являюсь в Курск, иду в полицию… Честь имею представиться! Курская полиция не может принять меня любезно: у неё своих хлопот – полон рот. Она предполагает, что пред ней ловкий мазурик, если от него не могли избавиться по силе и при помощи статей закона, а должны были, для его искоренения, прибегнуть к административным мерам. И она всегда рада сбыть меня куда-нибудь – хоть в омут головой! Видя её затруднения, я прихожу к ней на помощь. «Так как, говорю я, я сам избирал место жительства, то не пожелаете ли вы, чтоб я и ещё раз избрал его?» Они рады скачать меня с шеи. Я и говорю, что готов уйти из круга их попечения о неприкосновенности личностей и имущества, но мне, за мою любезность, следует дать на дорогу. Они дают рублей пять, десять, больше и меньше, смотря по настроению и характеру, – всегда дают с удовольствием. Лучше потерять пять целковых, чем приобрести в лице моём лишнее беспокойство, – не так ли?
– Может быть, – сказал я.
– Да уж – именно так! И они снабжают меня бумажкой, совершенно не похожей на паспорт.
В различии же этой бумажки с паспортом и заключается её магическая сила. На ней написано:
«Адми-ни-стра-тивно высланному из Пе-те-рбу-рга»! Я показываю её старосте, который, по обыкновению, глуп, как пень, он в ней ни дьявола не понимает. Он боится её: на ней печати.
Я говорю ему: «На основании этой бумаги ты должен дать мне ночлег». Он даёт. «Должен накормить меня!» Он кормит. Иначе он не может, потому что в бумаге изображено – из Петербурга, административно! Чёрт знает, что оно такое – «административно»? Может быть, это значит: послан тайно для расследования насчёт кустарных промыслов, подделки фальшивой монеты, тайного винокурения, тайной продажи питий? Или насчёт того – как усердно посещают православную церковь?.. А может быть, что-нибудь касательно земли? Кто разберёт, что такое значит – административно? Может быть, я кто-нибудь переряженный?.. Мужик глуп, что он понимает?
– Да, он мало понимает, – заметил я.
– И это очень хорошо! – убеждённо заявил Промтов. – Именно таким он и должен быть, и в таком лишь виде он и необходим для всех, как воздух. Ибо – что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь – съедобное животное. Например, – я! Разве возможно было бы мне пребывание на земле без мужика? Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик!
– А земля?
– Был бы мужик – земля будет! Стоит ему приказать: «Эй ты! Сотвори землю!» И – бысть земля. Он не может ослушаться…
Любил говорить этот весёлый пройдоха! Мы давно уже вышли из села, прошли мимо многих хуторов, и уже снова пред нами стояла деревня, вся утопавшая в оранжевой листве осени.
Промтов болтал – весёлый, как чиж, а я слушал и думал о новом для меня виде паразита, разъедающего мужицкое призрачное благосостояние…
– Послушайте-ка! – вдруг вспомнил я одно обстоятельство. – Мы встретились с вами при таких условиях, которые заставляют меня сильно усомниться в силе вашей бумажки… это как объяснить?
– Э! – усмехнулся Промтов. – Очень просто: я уже проходил по сим местам, а – не всегда, знаете, удобно напоминать о себе…
Его откровенность нравилась мне. Я внимательно вслушивался в развязную болтовню моего спутника, пытаясь определить, таков ли он, каким себя рисует?
– Вот пред нами деревня, – желаете, я покажу вам действие моей бумажки? – предложил Промтов.
Я отказался от этого опыта, предложив ему лучше рассказать мне, за что именно его наградили бумажкой?..
– Ну, это, знаете ли, длинная история! – махнул он рукой. – Но я расскажу – когда-нибудь. А пока что – давайте отдохнём и закусим. Пищевой снаряд у нас есть в достаточном количестве, значит, идти в деревню и беспокоить ближнего нам пока не требуется.
Отойдя в сторону от дороги, мы уселись на землю и стали есть. Потом, разленившись под тёплыми лучами солнца и дуновением мягкого ветра степи, улеглись и заснули… А когда проснулись, солнце, багровое и большое, уже было на горизонте, и на степь ложились тени южного вечера.
– Ну, вот видите, – объявил Промтов, – судьбе угодно, чтоб мы заночевали в этой деревушке…
– Пойдёмте, пока ещё светло, – предложил я.
– Не бойтесь! Сегодня ночуем под кровом…
Он был прав: в первой же хате, куда мы толкнулись с просьбой о ночлеге, нас гостеприимно пригласили войти.
Хозяин хаты, крупный и добродушный «чоловiк», только что приехал с поля, его «жiнка» готовила «вечеряти». Четверо чумазых ребятишек, сбившись в кучу в углу хаты, смотрели оттуда любопытными и робкими глазами. Дородная «жiнка» быстро и молча металась из хаты в сени и обратно, внося хлеб, кавуны, молоко. Хозяин сидел против нас на лавке и сосредоточенно тёр себе поясницу, кидая на нас вопрошающие взгляды.
Вскоре с его стороны последовал обычный вопрос:
– Где ж вы идёте?
– Ходим, добрый человек, о́т моря до́ моря, до Киева города!.. – бойко отвечал Промтов словами старой колыбельной песни.
– Чего ж там, у Киеви? – подумав, спросил человек.
– А – святые мощи?
Хозяин посмотрел на Промтова и молча сплюнул. Потом, после паузы, спросил:
– А видкиля и́дете?
– Я – из Петербурга, он – из Москвы, – отвечал Промтов.
– От що? – поднял брови хохол. – А що этот Петербург? Кажуть люди, що вiн на морi построен… и що его заливае…
Дверь отворилась, и явилось двое хохлов…
– А мы до тебе, Михайло! – объявил один из них.
– Що ж вы до мене?
– Та воно – таке дiло… Що се за люди?
– Ось цеи? – спросил хозяин, кивая на нас головой.
– Эге ж!
Хозяин помолчал, подумав и покрутив головой, объявил:
– Хиба ж я знаю?
– Мабудь, вы странники? – спросили у нас.
– Эге! – ответил Промтов.
Воцарилось молчание. Три хохла рассматривали нас упорно, подозрительно, любопытно…
Наконец, все уселись за стол и начали с треском уничтожать кроваво-красные кавуны…
– Мабудь, который из вас есть письменный? – обратился к Промтову один из хохлов.
– Оба, – кратко ответил Промтов.
– Так не знаете ли вы, часом, що треба делать чоловiку, як в него хребет ноет и зудит до то́го, что ночью и спати не можно?
– Знаем! – объявил Промтов.
– А що?
Промтов долго жевал хлеб, потом вытирал руки о свои лохмотья, потом задумчиво смотрел в потолок и, наконец, решительно и даже сурово заговорил:
– Нарвать крапивы и велеть бабе на ночь тою крапивой растереть хребет, а потом смазать его конопляным маслом с солью…
– Что ж с того буде? – осведомился хохол.
– А – ничего не будет, – пожал плечами Промтов.
– Ничого?
– Как есть ничего!
– А поможеть воно?
– Поможет…
– Спытаю… Спасибо вам…
– На здоровьечко! – пожелал Промтов совершенно серьёзно.
Долгое молчание, хруст кавунов, шёпот детей…
– А слухайте вы, – заговорил хозяин хаты, – як того… воно не звистно вам… мабудь, краем вуха зловили вы в Петербурги або в Москви… насчёт Сибири… можно переселяться чи не можно? Бо земскiй, – бреше вiн чи справды, – бачил, що зовсiм не можно?
– Не можно! – рубит Промтов.
Хохлы переглянулись друг с другом, и хозяин пробормотал в усы себе:
– Хай им жаба в брюхо влизе!
– Не можно! – вновь объявил Промтов, и вдруг лицо его стало каким-то вдохновенным…
– А потому не можно, что незачем ехать в Сибирь, когда везде земли – сколько хочешь!
– Та воно вирно, що для покойникiв земли везде у волю… для живых бы треба!.. – грустно заявил один хохол.
– В Петербурге решено, – торжественно продолжал Промтов, – всю землю, какая есть у крестьян и у помещиков, отобрать в казну…
Хохлы дико вытаращили на него глаза и молчали. Промтов строго осмотрел их и спросил:
– Отобрать в казну – зачем?
Молчание приняло характер напряжённый, и бедняги хохлы, казалось, вот-вот лопнут от ожидания. Я смотрел на них, едва сдерживая злобу, возбуждённую издевательством Промтова над бедняками. Но разоблачить пред ними его нахальное враньё – значило бы отдать его на избиение им. Я молчал.
– Та говорите ж, добрый чоловiк! – тихо и робко попросил один из хохлов.
– Затем отобрать, чтоб правильно разделить всю землю между крестьянами! Признано там, – Промтов ткнул рукой куда-то вбок, – что истинный хозяин земли есть крестьянин, и вот сделано распоряжение: в Сибирь не пускать, а ожидать раздела…
У одного из хохлов даже кусок кавуна вывалился из руки. Все они смотрели в рот Промтова жадными глазами и молчали, поражённые его дивной вестью. И потом – через несколько секунд – раздалось одновременно четыре восклицания:
– Мати пречиста! – истерически вздохнула «жiнка».
– А… мабудь, вы брешете?
– Та говорите ж, добрый чоловiче!
– Ось к чому цей год таки ярки зори! – убедительно воскликнул тот хохол, у которого болел хребет.
– Это – только слух, – сказал я, – может быть, всё это окажется брехнёй…
Промтов с искренним изумлением взглянул на меня и горячо заговорил:
– Как слух? Как так брехня?
И полилась из уст его мелодия наглейшего вранья – сладкая музыка для всех слушателей, кроме меня. Увеселительно он сочинял! Мужики готовы были вскочить ему в рот. Но мне было дико слушать эту вдохновенную ложь, она могла накликать на головы простодушных людей большое несчастие. Я вышел из хаты и лёг на дворе, думая, как бы разоблачить скверную игру моего спутника? Потом я заснул и был разбужен Промтовым на восходе солнца.
– Вставайте, идём! – говорил он.
Рядом с ним стоял заспанный хозяин хаты, а котомка Промтова топорщилась во все стороны. Мы простились с ним и ушли. Промтов был весел, пел, свистал и иронически поглядывал на меня сбоку. Я обдумывал речь к нему и молчал, шагая рядом с ним.
– Ну-с, что же вы меня не распинаете? – вдруг спросил он.
– А вы сознаёте, что следует? – сухо осведомился я.
– Ну, разумеется… Я понимаю вас и знаю, что вы должны меня шпынять… Даже скажу вам, как вы будете это делать. Хотите? Но – лучше бросьте это. Что дурного в том, что мужики помечтают? Они только будут умнее от этого. А я – выигрываю. Посмотрите, как они туго набили мне котомку!
– Но ведь вы можете подвести их под палку!
– Едва ли… А хотя бы? Какое мне дело до чужой спины? Дай боже свою сберечь в целости. Это, конечно, не морально; но какое мне, опять-таки, дело до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что никакого дела нет!
«Что же? – подумал я, – волк прав…»
– Положим, что они через меня потерпят, но ведь и после этого небо будет голубым, а море – солёным.
– Но неужели вам не жалко…
– Меня не жалеют… Аз есмь перекати-поле, и всякий, кому ветер бросает меня под ноги, – пинает меня в сторону…
Он был серьёзен и сосредоточенно зол, глаза его блестели мстительно.
– Я всегда так действую, а порой и хуже… Одному мужичку в Саратовской губернии от боли в животе я рекомендовал пить настоянное на чёрных тараканах деревянное масло, – за то, что он был скуп. Да мало ли я наделал злого и смешного во время моих странствий? Сколько я разных нелепых суеверий и мечтаний ввёл в духовный оборот мужика… И вообще, я не стесняюсь… Зачем бы мне это? Ради каких законов, я спрашиваю? Нет законов иных, разве во мне!
Я, слушая его, думал, что с моей стороны будет очень умно, если я вспомню первый псалом царя Давида и сойду с пути этого грешника. Но мне хотелось знать его историю.
Дня три ещё провёл я с ним и в эти три дня убедился во многом, о чём раньше догадывался. Так, например, мне стало ясно, каким путём в котомку Промтова попали разные ненужные вещи, вроде подсвечника медного, стамески, куска кружев, мониста. Я понял, что рискую рёбрами и даже могу попасть туда, куда обыкновенно попадают коллекционеры, подобные Промтову. Нужно было расстаться с ним… Но – его история!
И вот однажды, в день, когда дул свирепый ветер, сбивая нас с ног, и мы с Промтовым зарылись в стог соломы, дабы укрыться от холода, Промтов рассказал мне историю своей жизни…
II. История его жизни
– Ну-с, будем рассказывать, – на пользу и в поучение вам… Начну с папаши. Папаша у меня был человек строгий и благочестивый, достукался к шестидесяти годам до полной пенсии и переехал на жительство в уездный городишко, где купил себе домик… А мамаша была женщина доброго сердца и горячей крови, – так что, может быть, мой-то папаша мне и не отец. Он меня не уважал: за всякую малость ставил в угол, на колени, а то ремнём хлестал. Мамаша же любила меня, и с ней мне хорошо жилось. За каждую записочку, которую она, бывало, пошлёт со мной другу своего сердца, – а у неё друзья сердца всегда были, – я получаю от неё должное вознаграждение, а за скромность – особо. Когда папаша уехал, я остался в шестом классе гимназии и вскоре из неё был исключён за то, что перепутал учителей физики – нужно было брать уроки у нашего инспектора, а я брал их у инспекторской горничной. Инспектор на меня за это обиделся и прогнал меня к папаше. Явился я к нему и рассказываю, что вот, мол, вследствие недоразумений с инспектором исключён я из храма науки. А инспектор-то, оказалось, уже письмом изложил папаше всю суть дела, только умолчал благоразумно о том, что он застал меня на месте преступления, в комнате горничной, и что сам он явился туда ночью и в халате, а входя, шептал сладким голосом: «Дунечка?» Но это уж его дело. Папаша, встретив меня, стал, конечно, ругаться нехорошими словами, мамаша – тоже. Поругали и решили отправить меня во Псков, где у папаши был брат. Сослали меня во Псков; вижу я: дядюшка свирепый и глупый, но кузины хорошенькие, – стало быть, жить можно. Но оказалось, что и тут я не ко двору пришёлся: через три месяца турнул меня дядюшка, обвинив в развратном поведении и в дурном влиянии на дочерей его. Снова меня разругали и снова сослали – на этот раз в деревню к тётушке, в Рязанскую губернию. Тётушка оказалась славной и весёлой бабой, молодёжи у неё всегда была куча! Но в то время все были заражены дурацкой модой читать запрещённые книжки… Буц! И вот меня заперли в острог, где я и просидел, должно быть, месяца четыре. Мамаша письменно сообщает мне, что я её убил, папаша извещает меня, что я его опорочил, – очень скучные родители были у меня!
– Знаете, если бы человеку было позволено самому себе родителей выбирать, это было бы много удобнее теперешних порядков – верно? Ну-с, выпустили меня из острога, и я поехал в Нижний Новгород, где у меня сестра замужем. А сестра оказалась обременённой семейством и злой по сей причине… Что делать? На выручку мне явилась ярмарка, – поступил я в хор певцов. Голос был у меня хороший, наружность красивая, произвели меня в солисты, я и пою себе… Вы думаете, я пьянствовал при этом? Нет, я и теперь почти не пью водки, разве иногда, – очень редко, и то как согревающее. Я никогда не был пьяницей, – впрочем, напивался, если были хорошие вина, – шампанское, например. Марсалу дадите в обилии, – непременно упьюсь, ибо люблю её, как женщин. Женщин я люблю до бешенства… а может быть, я их ненавижу… потому что, взяв что следует с женщины, я сейчас же ощущаю непреоборимое желание сделать ей какую-нибудь мерзопакость – такую, знаете, чтоб она не боль и унижение чувствовала, а чтоб казалось ей, будто кровь её и мозг костей её напитал я отравой, и чтоб всю жизнь гадость этой отравы она носила в себе и чувствовала её каждую минуту… Н-да! Уж за что я так на них зол – не знаю и не могу объяснить себе этого… Они всегда были благосклонны ко мне, ибо я был красив и смел. Но и лживы они! Впрочем, чёрт с ними. Люблю я, когда они плачут и стонут, – смотришь, слушаешь и думаешь – ага! поделом вору и мука!..
– Ну-с, так вот – пою я и ничего себе, весело живу. Является однажды предо мною некий бритый человек и спрашивает: «Играть на сцене не пробовали?» – «Играл в домашних спектаклях…» – «На водевильные роли по двадцать пять рублей в месяц желаете?» Ну, и поехали мы в город Пермь. Играю я, пою в дивертисментах, – наружность – страстного брюнета, прошлое – политического преступника; дамы от меня в восторге. Дали мне вторых любовников, – играю. Пробуйте, говорят мне, героев. Пробую в «Блуждающих огнях» играть Макса, и – сам чувствую – хорошо вышло! Проиграл сезон, на лето составилось превесёлое турне: играли в Вятке, играли в Уфе, даже в городе Елабуге играли. На зиму опять воротились в Пермь.
– И в эту зиму я почувствовал к людям ненависть и отвращение. Выйдешь, знаете, на сцену, да как сотни дураков и мерзавцев воткнут в тебя свои глаза – по коже пробежит этакая рабья, трусливая дрожь и щиплет тебя, точно ты в муравьиную кучу уселся. Смотрят они на тебя, как на свою игрушку, как на вещь, которую купили для своего пользования. В их воле осудить и одобрить тебя… И вот они следят – достаточно ли ты прилежно ломаешься пред ними? И, если найдут, что прилежно, – орут, как ослы на привязи, а ты слушаешь их и чувствуешь себя довольным их похвалой. На время позабудешь, что ты их собственность… потом вспомнишь и за то, что тебе было приятно их одобрение, чуть не бьёшь себя по морде…
– До судорог противна была мне эта публика, и часто хотелось плюнуть на неё со сцены, выругать её самыми похабными словами. Бывало, чувствуешь, как её глаза впиваются в тело, точно булавки, и как жадно ждёт она, чтобы ты пощекотал её… ждёт с уверенностью той помещицы, которой дворовые девки на ночь пятки чесали… Чувствуешь это её ожидание и думаешь, как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу было можно всему первому ряду зрителей носы срезать… Чёрт бы их взял!
– Но я, кажется, в лиризм ударился? Так, значит, играю, ненавижу публику и хочу бежать от неё. В этом мне помогла супруга господина прокурора. Она мне не понравилась, а это ей не понравилось. Привела она в движение своего супруга, и очутился я в городе Саранске – точно пылинку ветром унесло меня с берегов Камы. Эхма! Всё – как сон, в сей подлой жизни.
– Сижу в Саранске, и сидит со мной молодая жена одного пермяка, купеческого звания.
Баба она была решительная и очень любила моё искусство. Вот мы с ней и сидим. Денег у нас нет, знакомств – тоже. Мне скучно, ей тоже. Она мне и стала говорить от скуки, что я её не люблю. Сначала я это терпел, но потом надоело; я и говорю ей: «Да поди ты от меня ко всем чертям!» – «Так-то?» – говорит. Схватила револьвер, трах в меня – прямо в плечо левое засадила пулю; немножко ниже – и был бы я в раю. Ну, я, конечно, упал. А она испугалась, да со страха-то в колодец и прыгнула. До смерти размокла там.
– А меня водворили в больницу. Ну, разумеется, явились дамы: их хлебом не корми, лишь бы им повертеться около какого-нибудь амурного дела. Вертелись они вокруг меня, пока я не встал на ноги, а когда встал, то определили меня секретарём в полицию. Что ж – состоять при полиции всё-таки удобнее, чем под надзором полиции. Вот я и живу месяц, два, три…
– Именно в эти дни, первый раз в моей жизни, испытал я приступ удручающей, коверкающей душу скуки… Это самое мерзостное настроение из всех, человека уродующих…
Всё вокруг перестаёт быть интересным, и хочется чего-то нового. Бросаешься туда, сюда, ищешь, ищешь, что-то находишь – берёшь и скоро видишь, что это совсем не то, что нужно…
Чувствуешь себя внутренно связанным, неспособным жить в мире с самим собой, – и этот мир всего нужнее человеку! Подлое состояние…
– И довело оно меня до того, что я женился. Такой поступок для человека моего характера только и возможен с тоски или похмелья.
– Жена была дочерью священника; жила она с матерью – отец умер – и пользовалась полною свободой. Имела свой собственный домик, даже можно сказать – домище, имела деньги.
Девица она была красивая, неглупая, весёлого характера, но очень любила читать книжки, и это скверно отражалось и на ней и на мне. Постоянно она вылавливала из книжек разные правила жизни: уловит какое-нибудь правило и сейчас с ним ко мне. А я со времён младых ногтей моих морали терпеть не мог… Сначала я посмеивался над женой, а потом стало мне тошно её слушать… Вижу я, что всегда она щеголяет наряженная в разные книжные выдумки – к женщине вычитанное из книжек идёт, как к лакею костюм с барского плеча. Стали мы поругиваться… Познакомился я с одним попом; был там этакий поп – забулдыга, гитарист, певец, – замечательно трепака откалывал и выпить был мастер!.. Для меня он – лучший человек в городе, потому что с ним мне было весело, а жена меня за попа ругает и всё хочет втащить в свою компанию из разных книжников и фарисеев. К ней являлись по вечерам все серьёзные и «лучшие люди города», как она их называла, – для меня они были серьёзны, как удавленники. Я и сам любил читать в то время, но никогда не умел беспокоиться по поводу прочитанного; да и не понимаю, зачем это нужно? А они, – жена и иже с нею, – когда, бывало, прочтут какую-нибудь книжку, так в такое беспокойство приходят, точно каждому из них по сто заноз в кожу попало. По-моему так: книжка? – хорошо! интересная? – ещё лучше! Но всякую книжку человек писал, а выше своей головы он не может прыгнуть. Книжки все пишутся для одной цели: все хотят показать, что хорошее – хорошо, а дурное – дурно. И толк будет один, прочитаешь ли сто их или тысячу. Жена пожирала книжки десятками – так что я прямо начал уже говорить ей, что мне жилось бы много лучше, если б я на попе женился. Поп только и спасал меня от скуки, а без него я бы убежал от жены… Бывало, как только фарисеи к ней – я к попу. Так прожил я года полтора. От скуки стал с попом в церкви служить. То апостол читаю, то, стоя на клиросе, пою: «От юности моея мнози борют мя страсти».
– Много претерпел я за это время и во многом буду оправдан на страшном суде за это терпение. Но вот приехала к попу моему племянница, – приехала потому, что был он вдов, и потому, что его свиньи съели, не совсем съели, а испортили его вид. Он, знаете, упал пьяный на дворе да и заснул, а свиньи пришли во двор и объели ему ухо и ещё что-то. Свиньи всякую дрянь едят. От этого ущерба захворал мой поп и призвал племянницу, чтоб она за ним ухаживала, а я за ней. Ну, мы с нею очень ревностно принялись за дело, и с успехом. А жена моя узнала и, конечно, ругается. Что мне делать? И я стал ругаться. Она и говорит мне:
«Пошёл вон из моего дома!» Я подумал, подумал и мирно ушёл – совсем ушёл из города. Так и разрешил узы моего брака… если она жива, супруга моя, так наверное уже считает меня благополучно умершим. Никогда не чувствовал я ни малого желания увидеть её… Думаю, что и она тоже хорошо меня забыла, да живёт в мире!
– И вот, снова свободный, прибыл я в город Пензу. Толкнулся в полицию – места нет; туда, сюда – места нет! Поступил в псаломщики, пою и читаю. В церкви опять публика, и снова у меня возникает к ней отвращение. Заработок – мизерный, положение – зависимое. Плохо было мне. Но одна купчиха выручила. Была она женщина толстая, богобоязненная, и жилось ей скучно. Вот она меня и облюбовала для духовного назидания. И стал я к ней ходить, а она меня – кормить. Муж у неё в доме умалишённых пребывал, она одна заправляла большим мучным делом… Вот я осторожненько и подъехал к ней: «Трудно, мол, Секлетея Кирилловна?» – «Трудно», – говорит. «Возьмите меня в помощники?» – «Обманешь», – говорит, – и взяла, конечно. Тут я очень хорошо зажил; но город оказался препоганым! Ни театра нет, ни порядочной гостиницы, ни интересных людей… Затосковал я и дядюшке пишу письмо: в течение пятилетнего отсутствия из Петербурга я, мол, очень образумился. Прошу прощения за всё, что сделал, больше никогда и ничего не буду делать, а между прочим, спрашиваю – нельзя ли мне в Питере жить? Дядюшка отвечает – можно, но осторожно. Расстался я с купчихой.
– Знаете что – баба она была глупая, жирная и некрасивая. Были у меня любовницы очень бельфамистые, – изящные и умные бабёнки были… Н-да. Но с ними я всегда расставался скверно: или я бабу прогоню со злобой и презрением, или баба мне пакость устроит. А эта Секлетея внушила мне уважение к себе своей простотой. Я говорю ей: «Прощай!» – «Прощай, говорит, мой сердечный! Дай тебе бог счастья…» – «Неужто, мол, тебе не жалко расстаться?»
– «Как, говорит, не жалко этакого красавца да умницу? Век бы, говорит, не рассталась с тобой, да ведь нужно… я, говорит, тебя понимаю – ты птица вольная; ну, и лети себе с богом!» И горько плачет… «Ну, говорю, прости меня, Секлетея!» – «Что ты, говорит, спасибо я тебе сказать должна, а не прощать тебя». – «Как спасибо, за что спасибо?» – «А как же? – говорит. – Ведь ты какой человек: тебе по миру пустить меня ничего не стоило, вся я в твоих руках была, как ты захотел бы, так и мог меня ограбить, и не помешала бы я тебе, – знал ты это! А ты вот честь честью уходишь! Знаю я, сколько ты нажил у меня за это время – всего около четырёх тысяч. Другой бы, говорит, на твоём месте всю кашку слопал, да и чашку о пол…» Н-да-а… вот что она сказала… Эх, милая баба!..
– Расцеловался я с нею и, уважая её, с лёгким сердцем и с пятью тысячами в кармане – она неверно сосчитала – явился в Питер. Живу барином, бываю в театре, обзавёлся знакомствами, иногда, от скуки, играю на сцене, но больше в карты. Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и, в течение ночи, десять раз умрёшь и воскреснешь. Жутко знать, что вот в следующую минуту убьют твой последний рубль и ты – нищий, ступай на улицу – воруй или застрелись. Хорошо также знать, что твой сосед или партнёр чувствует по поводу последнего рубля то же самое, щекотливое и жуткое, что ты сам чувствовал незадолго до него.
Видеть красные и бледные, возбуждённые рожи, трепещущие от страха быть обыгранными и от жадности к деньгам, – смотреть на них и бить их карты одну за другой – ах, как это волнует кровь!.. Бьёшь карту – а точно вырываешь у человека из сердца кусочек горячего мяса с нервами и кровью… Сочно! Этот постоянный риск падения – самое лучшее в жизни, и самая лучшая мысль выражена так:
Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю!
– Великое наслаждение есть в этом… и вообще хорошо себя чувствовать можно только тогда, когда чем-нибудь рискуешь. Чем больше риску, тем больше жизни… Случалось ли вам голодать? Мне случалось не есть по двое суток кряду… И вот, когда желудок начнёт есть сам себя, когда чувствуешь, как сохнут, умирая от голода, твои внутренности, – тогда готов за кусок хлеба убить человека, ребёнка… на всё готов, – в этой готовности к преступлению есть своя особая поэзия… это очень ценное ощущение, и, пережив его, – больше уважаешь себя!
– Но однако продолжим нашу пёструю повесть, она и так уже тянется, как похоронная процессия, в которой я занимаю место покойника. Тьфу! вот дурацкое уподобление влезло в голову. И, пожалуй, оно верно… отчего, впрочем, не становится умнее… У господина Бальзака где-то есть очень верное и меткое выражение: «Это глупо, как факт». Глупо? Ну и пускай! Итак, живу я в Петербурге. Это хороший город, но он стал бы вдвое лучше, если бы половину его жителей утопить в том скверном море, которое бултыхается около него. Живу и совершаю разные поступки, как это и надлежит человеку. Понравился одной даме, и она меня приобрела себе на содержание… Вы на содержании у женщин не состояли? Попробуйте, потому что это интересно, – вы в одно и то же время вещь вашей дамы и владыка её. Вас купили, как игрушку, но играете купившим – вы. Этот купивший оказывается в ваших руках и в очень смешном положении, – ибо вы всегда можете играть пред ним роль сапога, который хочет быть шляпой и требует, чтоб его носили на голове. Так вот, живу я и живу год, два, три – всё идёт хорошо, то есть весело. Но тут случилась одна опереточная история. Однажды пришёл ко мне некто, очень хороший человек, но занимавшийся дурным делом – политикой, за что, впрочем, и был своевременно и крепко ущемлён. Пришёл и говорит: «Достань мне паспорт!» – «Какой?» – «А вот, говорит, так: девица, брюнетка, лет двадцати, среднего роста, всё остальное – обыкновенное». – «Зачем?» – «А вот, говорит, есть такая девица, а нужно, чтоб её не было, так я её и хочу по чужому документу замуж выдать». Что же? Это дельце весёлое, а у моей дамы была как раз подходящая к требованию горничная… Я взял её паспорт, да и отдал этому шарлатану. Хорошо-с. Проходит длинное время.
– Вдруг – трах! являются два жандарма и говорят – пожалуйте! Я – пожаловал. Некто, седой и вельми свирепый, спрашивает меня: «Вы, говорит, для девицы такой-то паспорт доставали?» – «Верно, вашество, но только не знаю, для этой ли девицы». – «Как так?» А мне приятель девицу-то, действительно, забыл назвать. Свирепый человек мне не верит. «Как же, говорит, вы её не знаете, а паспорт ей дали?» – «Я не давал ей…» – «А кому?» – «А вот кому…» – «Ага-а, говорит, вот когда он попался! Благодарю за сведения!» И сейчас же отдал приказание забрать моего друга, а меня, пока что, запереть в уютное место. Дня через два дали мне с другом очную ставку. Он, конечно, подтвердил мои слова… Спрашивают меня, куда я желаю уехать из Питера? Я говорю: «Нельзя ли в Царское Село?» – «Нет, говорят, подальше».
– «А в Руссу?» – «Ещё подальше». Сторговались мы на Туле. В Тулу, так в Тулу! «Вы, говорит, можете и дальше уехать, если захотите, но сюда в продолжение трёх лет не являйтесь.
Документы ваши мы пока оставим у себя, на память о вас, а вам – извольте проходное свидетельство до Тулы. Получите и в двадцать четыре часа постарайтесь улепетнуть…» – «Ну, что же? – думаю я. – Надо слушаться начальство, – как его не послушаться?»
– Ну-с, так вот… продал я всё своё имущество квартирной хозяйке по ценам пареной репы и иду к моей даме. Не приказала принимать, собака. Захожу ещё к двум-трём знакомым, – встречают, точно прокажённого. Плюнул я на всех и пошёл в одно богоугодное место, чтоб провести там последние часы моей жизни в Питере. К шести часам утра я вышел оттуда без гроша в кармане, – дочиста проигрался в карты! Так аккуратно меня один товарищ прокурора обчистил, что я даже в умиление пришёл от его таланта, без всякого снисхождения обыграл… да!.. Ну, куда же мне деваться? Пошёл я, неизвестно зачем, на Московский вокзал, пришёл, потолкался там, вижу, идёт поезд в Москву. Вошёл в вагон и сел. Проехал две станции, меня с триумфом выгнали. Хотели составить протокол, спросили, кто я, – я показал им своё свидетельство, они и оставили меня в покое. «Идите, говорят, дальше». Иду. Вёрст десять прошёл – устал и чувствую, что надо поесть. Будка. Линейный сторож. Я к нему: «Дай, дружище, кусок хлеба?!» Посмотрел на меня он и дал мне не только хлеба, но и молока большую чашку. У него я и ночевал, первый раз по-бродяжьи, на вольном воздухе, на сене, в поле, за будкой. Проснулся на другой день, – солнце сияет, воздух – как шампанское, зелень, птицы.
Взял у сторожа ещё хлеба и пошёл дальше.
– Вы должны понять это: в бродяжьей жизни есть нечто всасывающее, поглощающее.
Приятно чувствовать себя свободным от обязанностей, от разных маленьких верёвочек, связывающих твоё существование среди людей… от всяких мелочишек, до того облепляющих твою жизнь, что она становится уже не удовольствием, а скучной ношей… тяжёлым лукошком обязанностей… вроде обязанности одеваться – прилично, говорить – прилично… и всё делать так, как принято, а не так, как тебе хочется. При встрече со знакомым нужно, как это принято, сказать ему – здравствуй! – а не – издохни! – как это иногда хочется сказать.
– Вообще – если говорить по правде – так все эти торжественно-дурацкие отношения, что установились между порядочными городскими людьми, – скучная комедия! Да ещё и подлая комедия, потому что никто никого в глаза не называет ни дураком, ни мерзавцем… а если иногда это и делается, так только в припадке той искренности, которую называют злобой…
– А на бродяжьем положении живёшь вне всей этой канители… То же обстоятельство, что ты без сожаления отказался от разных удобств жизни и можешь существовать без них, как-то приятно приподнимает тебя в своих глазах. К себе становишься снисходительным без оглядки, – хотя я к себе никогда не относился строго, не одёргивал себя и зубы моей совести никогда у меня не ныли, не царапал я моего сердца когтями моего ума. Я, знаете, рано и как-то незаметно для себя твёрдо усвоил самую простейшую и мудрую философию: как ни живи – а всё-таки умрёшь; зачем же ссориться с собой, зачем тащить себя за хвост влево, когда натура твоя во всю мочь прёт направо? И людей, которые рвут себя надвое, я терпеть не могу… Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривал с такими юродивыми. Спрашиваешь его: «О чём ты, друг, ноешь, зачем ты, брат, скандалишь?» – «Стремлюсь, говорит, к самоусовершенствованию…» – «Чего же, мол, ради?» – «Как так – чего ради? В совершенствовании человека – смысл жизни…» – «Ну, я этого не понимаю; вот в совершенствовании дерева смысл ясен: оно усовершенствуется до пригодности в дело, и его употребят на оглоблю, на гроб или ещё на что-нибудь полезное для человека… Ну, хорошо! ты совершенствуешься – это твоё дело; но, скажи, зачем ты ко мне пристаёшь и меня в свою веру обратить хочешь?» – «А затем, говорит, что ты скот и не ищешь смысла в жизни». – «Да я же нашёл его, ежели сознание скотства моего не отягощает меня». – «Врёшь, говорит. Коли ты, говорит, сознаёшь, ты должен исправиться». – «Как исправиться? Да ведь я живу в мире с собой, ум и чувство у меня едино суть, слово и дело в полной гармонии!» – «Это, говорит, подлость и цинизм…» И вот так рассуждают все они, бывало. Чувствую я, что они и врут и глупы; чувствую это и не могу не презирать их. Потому что – я людей знаю! – если всё сегодняшнее подлое, грязное и злое объявишь завтра честным, чистым, добрым – все эти морды, без всякого усилия над собой, завтра же и будут совершенно честными, чистыми и добрыми. Им для этого понадобится только одно – трусость свою уничтожить в себе… Так-то. – Резко это, говорите? Ничего, сойдёт. Пусть резко, зато правильно… Я, видите ли, так полагаю: служи богу или чёрту, но не богу и чёрту. Хороший подлец всегда лучше плохого честного человека.
– Не можно! – рубит Промтов.
Хохлы переглянулись друг с другом, и хозяин пробормотал в усы себе:
– Хай им жаба в брюхо влизе!
– Не можно! – вновь объявил Промтов, и вдруг лицо его стало каким-то вдохновенным…
– А потому не можно, что незачем ехать в Сибирь, когда везде земли – сколько хочешь!
– Та воно вирно, що для покойникiв земли везде у волю… для живых бы треба!.. – грустно заявил один хохол.
– В Петербурге решено, – торжественно продолжал Промтов, – всю землю, какая есть у крестьян и у помещиков, отобрать в казну…
Хохлы дико вытаращили на него глаза и молчали. Промтов строго осмотрел их и спросил:
– Отобрать в казну – зачем?
Молчание приняло характер напряжённый, и бедняги хохлы, казалось, вот-вот лопнут от ожидания. Я смотрел на них, едва сдерживая злобу, возбуждённую издевательством Промтова над бедняками. Но разоблачить пред ними его нахальное враньё – значило бы отдать его на избиение им. Я молчал.
– Та говорите ж, добрый чоловiк! – тихо и робко попросил один из хохлов.
– Затем отобрать, чтоб правильно разделить всю землю между крестьянами! Признано там, – Промтов ткнул рукой куда-то вбок, – что истинный хозяин земли есть крестьянин, и вот сделано распоряжение: в Сибирь не пускать, а ожидать раздела…
У одного из хохлов даже кусок кавуна вывалился из руки. Все они смотрели в рот Промтова жадными глазами и молчали, поражённые его дивной вестью. И потом – через несколько секунд – раздалось одновременно четыре восклицания:
– Мати пречиста! – истерически вздохнула «жiнка».
– А… мабудь, вы брешете?
– Та говорите ж, добрый чоловiче!
– Ось к чому цей год таки ярки зори! – убедительно воскликнул тот хохол, у которого болел хребет.
– Это – только слух, – сказал я, – может быть, всё это окажется брехнёй…
Промтов с искренним изумлением взглянул на меня и горячо заговорил:
– Как слух? Как так брехня?
И полилась из уст его мелодия наглейшего вранья – сладкая музыка для всех слушателей, кроме меня. Увеселительно он сочинял! Мужики готовы были вскочить ему в рот. Но мне было дико слушать эту вдохновенную ложь, она могла накликать на головы простодушных людей большое несчастие. Я вышел из хаты и лёг на дворе, думая, как бы разоблачить скверную игру моего спутника? Потом я заснул и был разбужен Промтовым на восходе солнца.
– Вставайте, идём! – говорил он.
Рядом с ним стоял заспанный хозяин хаты, а котомка Промтова топорщилась во все стороны. Мы простились с ним и ушли. Промтов был весел, пел, свистал и иронически поглядывал на меня сбоку. Я обдумывал речь к нему и молчал, шагая рядом с ним.
– Ну-с, что же вы меня не распинаете? – вдруг спросил он.
– А вы сознаёте, что следует? – сухо осведомился я.
– Ну, разумеется… Я понимаю вас и знаю, что вы должны меня шпынять… Даже скажу вам, как вы будете это делать. Хотите? Но – лучше бросьте это. Что дурного в том, что мужики помечтают? Они только будут умнее от этого. А я – выигрываю. Посмотрите, как они туго набили мне котомку!
– Но ведь вы можете подвести их под палку!
– Едва ли… А хотя бы? Какое мне дело до чужой спины? Дай боже свою сберечь в целости. Это, конечно, не морально; но какое мне, опять-таки, дело до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что никакого дела нет!
«Что же? – подумал я, – волк прав…»
– Положим, что они через меня потерпят, но ведь и после этого небо будет голубым, а море – солёным.
– Но неужели вам не жалко…
– Меня не жалеют… Аз есмь перекати-поле, и всякий, кому ветер бросает меня под ноги, – пинает меня в сторону…
Он был серьёзен и сосредоточенно зол, глаза его блестели мстительно.
– Я всегда так действую, а порой и хуже… Одному мужичку в Саратовской губернии от боли в животе я рекомендовал пить настоянное на чёрных тараканах деревянное масло, – за то, что он был скуп. Да мало ли я наделал злого и смешного во время моих странствий? Сколько я разных нелепых суеверий и мечтаний ввёл в духовный оборот мужика… И вообще, я не стесняюсь… Зачем бы мне это? Ради каких законов, я спрашиваю? Нет законов иных, разве во мне!
Я, слушая его, думал, что с моей стороны будет очень умно, если я вспомню первый псалом царя Давида и сойду с пути этого грешника. Но мне хотелось знать его историю.
Дня три ещё провёл я с ним и в эти три дня убедился во многом, о чём раньше догадывался. Так, например, мне стало ясно, каким путём в котомку Промтова попали разные ненужные вещи, вроде подсвечника медного, стамески, куска кружев, мониста. Я понял, что рискую рёбрами и даже могу попасть туда, куда обыкновенно попадают коллекционеры, подобные Промтову. Нужно было расстаться с ним… Но – его история!
И вот однажды, в день, когда дул свирепый ветер, сбивая нас с ног, и мы с Промтовым зарылись в стог соломы, дабы укрыться от холода, Промтов рассказал мне историю своей жизни…
II. История его жизни
– Ну-с, будем рассказывать, – на пользу и в поучение вам… Начну с папаши. Папаша у меня был человек строгий и благочестивый, достукался к шестидесяти годам до полной пенсии и переехал на жительство в уездный городишко, где купил себе домик… А мамаша была женщина доброго сердца и горячей крови, – так что, может быть, мой-то папаша мне и не отец. Он меня не уважал: за всякую малость ставил в угол, на колени, а то ремнём хлестал. Мамаша же любила меня, и с ней мне хорошо жилось. За каждую записочку, которую она, бывало, пошлёт со мной другу своего сердца, – а у неё друзья сердца всегда были, – я получаю от неё должное вознаграждение, а за скромность – особо. Когда папаша уехал, я остался в шестом классе гимназии и вскоре из неё был исключён за то, что перепутал учителей физики – нужно было брать уроки у нашего инспектора, а я брал их у инспекторской горничной. Инспектор на меня за это обиделся и прогнал меня к папаше. Явился я к нему и рассказываю, что вот, мол, вследствие недоразумений с инспектором исключён я из храма науки. А инспектор-то, оказалось, уже письмом изложил папаше всю суть дела, только умолчал благоразумно о том, что он застал меня на месте преступления, в комнате горничной, и что сам он явился туда ночью и в халате, а входя, шептал сладким голосом: «Дунечка?» Но это уж его дело. Папаша, встретив меня, стал, конечно, ругаться нехорошими словами, мамаша – тоже. Поругали и решили отправить меня во Псков, где у папаши был брат. Сослали меня во Псков; вижу я: дядюшка свирепый и глупый, но кузины хорошенькие, – стало быть, жить можно. Но оказалось, что и тут я не ко двору пришёлся: через три месяца турнул меня дядюшка, обвинив в развратном поведении и в дурном влиянии на дочерей его. Снова меня разругали и снова сослали – на этот раз в деревню к тётушке, в Рязанскую губернию. Тётушка оказалась славной и весёлой бабой, молодёжи у неё всегда была куча! Но в то время все были заражены дурацкой модой читать запрещённые книжки… Буц! И вот меня заперли в острог, где я и просидел, должно быть, месяца четыре. Мамаша письменно сообщает мне, что я её убил, папаша извещает меня, что я его опорочил, – очень скучные родители были у меня!
– Знаете, если бы человеку было позволено самому себе родителей выбирать, это было бы много удобнее теперешних порядков – верно? Ну-с, выпустили меня из острога, и я поехал в Нижний Новгород, где у меня сестра замужем. А сестра оказалась обременённой семейством и злой по сей причине… Что делать? На выручку мне явилась ярмарка, – поступил я в хор певцов. Голос был у меня хороший, наружность красивая, произвели меня в солисты, я и пою себе… Вы думаете, я пьянствовал при этом? Нет, я и теперь почти не пью водки, разве иногда, – очень редко, и то как согревающее. Я никогда не был пьяницей, – впрочем, напивался, если были хорошие вина, – шампанское, например. Марсалу дадите в обилии, – непременно упьюсь, ибо люблю её, как женщин. Женщин я люблю до бешенства… а может быть, я их ненавижу… потому что, взяв что следует с женщины, я сейчас же ощущаю непреоборимое желание сделать ей какую-нибудь мерзопакость – такую, знаете, чтоб она не боль и унижение чувствовала, а чтоб казалось ей, будто кровь её и мозг костей её напитал я отравой, и чтоб всю жизнь гадость этой отравы она носила в себе и чувствовала её каждую минуту… Н-да! Уж за что я так на них зол – не знаю и не могу объяснить себе этого… Они всегда были благосклонны ко мне, ибо я был красив и смел. Но и лживы они! Впрочем, чёрт с ними. Люблю я, когда они плачут и стонут, – смотришь, слушаешь и думаешь – ага! поделом вору и мука!..
– Ну-с, так вот – пою я и ничего себе, весело живу. Является однажды предо мною некий бритый человек и спрашивает: «Играть на сцене не пробовали?» – «Играл в домашних спектаклях…» – «На водевильные роли по двадцать пять рублей в месяц желаете?» Ну, и поехали мы в город Пермь. Играю я, пою в дивертисментах, – наружность – страстного брюнета, прошлое – политического преступника; дамы от меня в восторге. Дали мне вторых любовников, – играю. Пробуйте, говорят мне, героев. Пробую в «Блуждающих огнях» играть Макса, и – сам чувствую – хорошо вышло! Проиграл сезон, на лето составилось превесёлое турне: играли в Вятке, играли в Уфе, даже в городе Елабуге играли. На зиму опять воротились в Пермь.
– И в эту зиму я почувствовал к людям ненависть и отвращение. Выйдешь, знаете, на сцену, да как сотни дураков и мерзавцев воткнут в тебя свои глаза – по коже пробежит этакая рабья, трусливая дрожь и щиплет тебя, точно ты в муравьиную кучу уселся. Смотрят они на тебя, как на свою игрушку, как на вещь, которую купили для своего пользования. В их воле осудить и одобрить тебя… И вот они следят – достаточно ли ты прилежно ломаешься пред ними? И, если найдут, что прилежно, – орут, как ослы на привязи, а ты слушаешь их и чувствуешь себя довольным их похвалой. На время позабудешь, что ты их собственность… потом вспомнишь и за то, что тебе было приятно их одобрение, чуть не бьёшь себя по морде…
– До судорог противна была мне эта публика, и часто хотелось плюнуть на неё со сцены, выругать её самыми похабными словами. Бывало, чувствуешь, как её глаза впиваются в тело, точно булавки, и как жадно ждёт она, чтобы ты пощекотал её… ждёт с уверенностью той помещицы, которой дворовые девки на ночь пятки чесали… Чувствуешь это её ожидание и думаешь, как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу было можно всему первому ряду зрителей носы срезать… Чёрт бы их взял!
– Но я, кажется, в лиризм ударился? Так, значит, играю, ненавижу публику и хочу бежать от неё. В этом мне помогла супруга господина прокурора. Она мне не понравилась, а это ей не понравилось. Привела она в движение своего супруга, и очутился я в городе Саранске – точно пылинку ветром унесло меня с берегов Камы. Эхма! Всё – как сон, в сей подлой жизни.
– Сижу в Саранске, и сидит со мной молодая жена одного пермяка, купеческого звания.
Баба она была решительная и очень любила моё искусство. Вот мы с ней и сидим. Денег у нас нет, знакомств – тоже. Мне скучно, ей тоже. Она мне и стала говорить от скуки, что я её не люблю. Сначала я это терпел, но потом надоело; я и говорю ей: «Да поди ты от меня ко всем чертям!» – «Так-то?» – говорит. Схватила револьвер, трах в меня – прямо в плечо левое засадила пулю; немножко ниже – и был бы я в раю. Ну, я, конечно, упал. А она испугалась, да со страха-то в колодец и прыгнула. До смерти размокла там.
– А меня водворили в больницу. Ну, разумеется, явились дамы: их хлебом не корми, лишь бы им повертеться около какого-нибудь амурного дела. Вертелись они вокруг меня, пока я не встал на ноги, а когда встал, то определили меня секретарём в полицию. Что ж – состоять при полиции всё-таки удобнее, чем под надзором полиции. Вот я и живу месяц, два, три…
– Именно в эти дни, первый раз в моей жизни, испытал я приступ удручающей, коверкающей душу скуки… Это самое мерзостное настроение из всех, человека уродующих…
Всё вокруг перестаёт быть интересным, и хочется чего-то нового. Бросаешься туда, сюда, ищешь, ищешь, что-то находишь – берёшь и скоро видишь, что это совсем не то, что нужно…
Чувствуешь себя внутренно связанным, неспособным жить в мире с самим собой, – и этот мир всего нужнее человеку! Подлое состояние…
– И довело оно меня до того, что я женился. Такой поступок для человека моего характера только и возможен с тоски или похмелья.
– Жена была дочерью священника; жила она с матерью – отец умер – и пользовалась полною свободой. Имела свой собственный домик, даже можно сказать – домище, имела деньги.
Девица она была красивая, неглупая, весёлого характера, но очень любила читать книжки, и это скверно отражалось и на ней и на мне. Постоянно она вылавливала из книжек разные правила жизни: уловит какое-нибудь правило и сейчас с ним ко мне. А я со времён младых ногтей моих морали терпеть не мог… Сначала я посмеивался над женой, а потом стало мне тошно её слушать… Вижу я, что всегда она щеголяет наряженная в разные книжные выдумки – к женщине вычитанное из книжек идёт, как к лакею костюм с барского плеча. Стали мы поругиваться… Познакомился я с одним попом; был там этакий поп – забулдыга, гитарист, певец, – замечательно трепака откалывал и выпить был мастер!.. Для меня он – лучший человек в городе, потому что с ним мне было весело, а жена меня за попа ругает и всё хочет втащить в свою компанию из разных книжников и фарисеев. К ней являлись по вечерам все серьёзные и «лучшие люди города», как она их называла, – для меня они были серьёзны, как удавленники. Я и сам любил читать в то время, но никогда не умел беспокоиться по поводу прочитанного; да и не понимаю, зачем это нужно? А они, – жена и иже с нею, – когда, бывало, прочтут какую-нибудь книжку, так в такое беспокойство приходят, точно каждому из них по сто заноз в кожу попало. По-моему так: книжка? – хорошо! интересная? – ещё лучше! Но всякую книжку человек писал, а выше своей головы он не может прыгнуть. Книжки все пишутся для одной цели: все хотят показать, что хорошее – хорошо, а дурное – дурно. И толк будет один, прочитаешь ли сто их или тысячу. Жена пожирала книжки десятками – так что я прямо начал уже говорить ей, что мне жилось бы много лучше, если б я на попе женился. Поп только и спасал меня от скуки, а без него я бы убежал от жены… Бывало, как только фарисеи к ней – я к попу. Так прожил я года полтора. От скуки стал с попом в церкви служить. То апостол читаю, то, стоя на клиросе, пою: «От юности моея мнози борют мя страсти».
– Много претерпел я за это время и во многом буду оправдан на страшном суде за это терпение. Но вот приехала к попу моему племянница, – приехала потому, что был он вдов, и потому, что его свиньи съели, не совсем съели, а испортили его вид. Он, знаете, упал пьяный на дворе да и заснул, а свиньи пришли во двор и объели ему ухо и ещё что-то. Свиньи всякую дрянь едят. От этого ущерба захворал мой поп и призвал племянницу, чтоб она за ним ухаживала, а я за ней. Ну, мы с нею очень ревностно принялись за дело, и с успехом. А жена моя узнала и, конечно, ругается. Что мне делать? И я стал ругаться. Она и говорит мне:
«Пошёл вон из моего дома!» Я подумал, подумал и мирно ушёл – совсем ушёл из города. Так и разрешил узы моего брака… если она жива, супруга моя, так наверное уже считает меня благополучно умершим. Никогда не чувствовал я ни малого желания увидеть её… Думаю, что и она тоже хорошо меня забыла, да живёт в мире!
– И вот, снова свободный, прибыл я в город Пензу. Толкнулся в полицию – места нет; туда, сюда – места нет! Поступил в псаломщики, пою и читаю. В церкви опять публика, и снова у меня возникает к ней отвращение. Заработок – мизерный, положение – зависимое. Плохо было мне. Но одна купчиха выручила. Была она женщина толстая, богобоязненная, и жилось ей скучно. Вот она меня и облюбовала для духовного назидания. И стал я к ней ходить, а она меня – кормить. Муж у неё в доме умалишённых пребывал, она одна заправляла большим мучным делом… Вот я осторожненько и подъехал к ней: «Трудно, мол, Секлетея Кирилловна?» – «Трудно», – говорит. «Возьмите меня в помощники?» – «Обманешь», – говорит, – и взяла, конечно. Тут я очень хорошо зажил; но город оказался препоганым! Ни театра нет, ни порядочной гостиницы, ни интересных людей… Затосковал я и дядюшке пишу письмо: в течение пятилетнего отсутствия из Петербурга я, мол, очень образумился. Прошу прощения за всё, что сделал, больше никогда и ничего не буду делать, а между прочим, спрашиваю – нельзя ли мне в Питере жить? Дядюшка отвечает – можно, но осторожно. Расстался я с купчихой.
– Знаете что – баба она была глупая, жирная и некрасивая. Были у меня любовницы очень бельфамистые, – изящные и умные бабёнки были… Н-да. Но с ними я всегда расставался скверно: или я бабу прогоню со злобой и презрением, или баба мне пакость устроит. А эта Секлетея внушила мне уважение к себе своей простотой. Я говорю ей: «Прощай!» – «Прощай, говорит, мой сердечный! Дай тебе бог счастья…» – «Неужто, мол, тебе не жалко расстаться?»
– «Как, говорит, не жалко этакого красавца да умницу? Век бы, говорит, не рассталась с тобой, да ведь нужно… я, говорит, тебя понимаю – ты птица вольная; ну, и лети себе с богом!» И горько плачет… «Ну, говорю, прости меня, Секлетея!» – «Что ты, говорит, спасибо я тебе сказать должна, а не прощать тебя». – «Как спасибо, за что спасибо?» – «А как же? – говорит. – Ведь ты какой человек: тебе по миру пустить меня ничего не стоило, вся я в твоих руках была, как ты захотел бы, так и мог меня ограбить, и не помешала бы я тебе, – знал ты это! А ты вот честь честью уходишь! Знаю я, сколько ты нажил у меня за это время – всего около четырёх тысяч. Другой бы, говорит, на твоём месте всю кашку слопал, да и чашку о пол…» Н-да-а… вот что она сказала… Эх, милая баба!..
– Расцеловался я с нею и, уважая её, с лёгким сердцем и с пятью тысячами в кармане – она неверно сосчитала – явился в Питер. Живу барином, бываю в театре, обзавёлся знакомствами, иногда, от скуки, играю на сцене, но больше в карты. Прекрасное занятие карты: сидишь за столом и, в течение ночи, десять раз умрёшь и воскреснешь. Жутко знать, что вот в следующую минуту убьют твой последний рубль и ты – нищий, ступай на улицу – воруй или застрелись. Хорошо также знать, что твой сосед или партнёр чувствует по поводу последнего рубля то же самое, щекотливое и жуткое, что ты сам чувствовал незадолго до него.
Видеть красные и бледные, возбуждённые рожи, трепещущие от страха быть обыгранными и от жадности к деньгам, – смотреть на них и бить их карты одну за другой – ах, как это волнует кровь!.. Бьёшь карту – а точно вырываешь у человека из сердца кусочек горячего мяса с нервами и кровью… Сочно! Этот постоянный риск падения – самое лучшее в жизни, и самая лучшая мысль выражена так:
Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю!
– Великое наслаждение есть в этом… и вообще хорошо себя чувствовать можно только тогда, когда чем-нибудь рискуешь. Чем больше риску, тем больше жизни… Случалось ли вам голодать? Мне случалось не есть по двое суток кряду… И вот, когда желудок начнёт есть сам себя, когда чувствуешь, как сохнут, умирая от голода, твои внутренности, – тогда готов за кусок хлеба убить человека, ребёнка… на всё готов, – в этой готовности к преступлению есть своя особая поэзия… это очень ценное ощущение, и, пережив его, – больше уважаешь себя!
– Но однако продолжим нашу пёструю повесть, она и так уже тянется, как похоронная процессия, в которой я занимаю место покойника. Тьфу! вот дурацкое уподобление влезло в голову. И, пожалуй, оно верно… отчего, впрочем, не становится умнее… У господина Бальзака где-то есть очень верное и меткое выражение: «Это глупо, как факт». Глупо? Ну и пускай! Итак, живу я в Петербурге. Это хороший город, но он стал бы вдвое лучше, если бы половину его жителей утопить в том скверном море, которое бултыхается около него. Живу и совершаю разные поступки, как это и надлежит человеку. Понравился одной даме, и она меня приобрела себе на содержание… Вы на содержании у женщин не состояли? Попробуйте, потому что это интересно, – вы в одно и то же время вещь вашей дамы и владыка её. Вас купили, как игрушку, но играете купившим – вы. Этот купивший оказывается в ваших руках и в очень смешном положении, – ибо вы всегда можете играть пред ним роль сапога, который хочет быть шляпой и требует, чтоб его носили на голове. Так вот, живу я и живу год, два, три – всё идёт хорошо, то есть весело. Но тут случилась одна опереточная история. Однажды пришёл ко мне некто, очень хороший человек, но занимавшийся дурным делом – политикой, за что, впрочем, и был своевременно и крепко ущемлён. Пришёл и говорит: «Достань мне паспорт!» – «Какой?» – «А вот, говорит, так: девица, брюнетка, лет двадцати, среднего роста, всё остальное – обыкновенное». – «Зачем?» – «А вот, говорит, есть такая девица, а нужно, чтоб её не было, так я её и хочу по чужому документу замуж выдать». Что же? Это дельце весёлое, а у моей дамы была как раз подходящая к требованию горничная… Я взял её паспорт, да и отдал этому шарлатану. Хорошо-с. Проходит длинное время.
– Вдруг – трах! являются два жандарма и говорят – пожалуйте! Я – пожаловал. Некто, седой и вельми свирепый, спрашивает меня: «Вы, говорит, для девицы такой-то паспорт доставали?» – «Верно, вашество, но только не знаю, для этой ли девицы». – «Как так?» А мне приятель девицу-то, действительно, забыл назвать. Свирепый человек мне не верит. «Как же, говорит, вы её не знаете, а паспорт ей дали?» – «Я не давал ей…» – «А кому?» – «А вот кому…» – «Ага-а, говорит, вот когда он попался! Благодарю за сведения!» И сейчас же отдал приказание забрать моего друга, а меня, пока что, запереть в уютное место. Дня через два дали мне с другом очную ставку. Он, конечно, подтвердил мои слова… Спрашивают меня, куда я желаю уехать из Питера? Я говорю: «Нельзя ли в Царское Село?» – «Нет, говорят, подальше».
– «А в Руссу?» – «Ещё подальше». Сторговались мы на Туле. В Тулу, так в Тулу! «Вы, говорит, можете и дальше уехать, если захотите, но сюда в продолжение трёх лет не являйтесь.
Документы ваши мы пока оставим у себя, на память о вас, а вам – извольте проходное свидетельство до Тулы. Получите и в двадцать четыре часа постарайтесь улепетнуть…» – «Ну, что же? – думаю я. – Надо слушаться начальство, – как его не послушаться?»
– Ну-с, так вот… продал я всё своё имущество квартирной хозяйке по ценам пареной репы и иду к моей даме. Не приказала принимать, собака. Захожу ещё к двум-трём знакомым, – встречают, точно прокажённого. Плюнул я на всех и пошёл в одно богоугодное место, чтоб провести там последние часы моей жизни в Питере. К шести часам утра я вышел оттуда без гроша в кармане, – дочиста проигрался в карты! Так аккуратно меня один товарищ прокурора обчистил, что я даже в умиление пришёл от его таланта, без всякого снисхождения обыграл… да!.. Ну, куда же мне деваться? Пошёл я, неизвестно зачем, на Московский вокзал, пришёл, потолкался там, вижу, идёт поезд в Москву. Вошёл в вагон и сел. Проехал две станции, меня с триумфом выгнали. Хотели составить протокол, спросили, кто я, – я показал им своё свидетельство, они и оставили меня в покое. «Идите, говорят, дальше». Иду. Вёрст десять прошёл – устал и чувствую, что надо поесть. Будка. Линейный сторож. Я к нему: «Дай, дружище, кусок хлеба?!» Посмотрел на меня он и дал мне не только хлеба, но и молока большую чашку. У него я и ночевал, первый раз по-бродяжьи, на вольном воздухе, на сене, в поле, за будкой. Проснулся на другой день, – солнце сияет, воздух – как шампанское, зелень, птицы.
Взял у сторожа ещё хлеба и пошёл дальше.
– Вы должны понять это: в бродяжьей жизни есть нечто всасывающее, поглощающее.
Приятно чувствовать себя свободным от обязанностей, от разных маленьких верёвочек, связывающих твоё существование среди людей… от всяких мелочишек, до того облепляющих твою жизнь, что она становится уже не удовольствием, а скучной ношей… тяжёлым лукошком обязанностей… вроде обязанности одеваться – прилично, говорить – прилично… и всё делать так, как принято, а не так, как тебе хочется. При встрече со знакомым нужно, как это принято, сказать ему – здравствуй! – а не – издохни! – как это иногда хочется сказать.
– Вообще – если говорить по правде – так все эти торжественно-дурацкие отношения, что установились между порядочными городскими людьми, – скучная комедия! Да ещё и подлая комедия, потому что никто никого в глаза не называет ни дураком, ни мерзавцем… а если иногда это и делается, так только в припадке той искренности, которую называют злобой…
– А на бродяжьем положении живёшь вне всей этой канители… То же обстоятельство, что ты без сожаления отказался от разных удобств жизни и можешь существовать без них, как-то приятно приподнимает тебя в своих глазах. К себе становишься снисходительным без оглядки, – хотя я к себе никогда не относился строго, не одёргивал себя и зубы моей совести никогда у меня не ныли, не царапал я моего сердца когтями моего ума. Я, знаете, рано и как-то незаметно для себя твёрдо усвоил самую простейшую и мудрую философию: как ни живи – а всё-таки умрёшь; зачем же ссориться с собой, зачем тащить себя за хвост влево, когда натура твоя во всю мочь прёт направо? И людей, которые рвут себя надвое, я терпеть не могу… Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривал с такими юродивыми. Спрашиваешь его: «О чём ты, друг, ноешь, зачем ты, брат, скандалишь?» – «Стремлюсь, говорит, к самоусовершенствованию…» – «Чего же, мол, ради?» – «Как так – чего ради? В совершенствовании человека – смысл жизни…» – «Ну, я этого не понимаю; вот в совершенствовании дерева смысл ясен: оно усовершенствуется до пригодности в дело, и его употребят на оглоблю, на гроб или ещё на что-нибудь полезное для человека… Ну, хорошо! ты совершенствуешься – это твоё дело; но, скажи, зачем ты ко мне пристаёшь и меня в свою веру обратить хочешь?» – «А затем, говорит, что ты скот и не ищешь смысла в жизни». – «Да я же нашёл его, ежели сознание скотства моего не отягощает меня». – «Врёшь, говорит. Коли ты, говорит, сознаёшь, ты должен исправиться». – «Как исправиться? Да ведь я живу в мире с собой, ум и чувство у меня едино суть, слово и дело в полной гармонии!» – «Это, говорит, подлость и цинизм…» И вот так рассуждают все они, бывало. Чувствую я, что они и врут и глупы; чувствую это и не могу не презирать их. Потому что – я людей знаю! – если всё сегодняшнее подлое, грязное и злое объявишь завтра честным, чистым, добрым – все эти морды, без всякого усилия над собой, завтра же и будут совершенно честными, чистыми и добрыми. Им для этого понадобится только одно – трусость свою уничтожить в себе… Так-то. – Резко это, говорите? Ничего, сойдёт. Пусть резко, зато правильно… Я, видите ли, так полагаю: служи богу или чёрту, но не богу и чёрту. Хороший подлец всегда лучше плохого честного человека.
Есть чёрное и есть белое, смешай их – будет грязное. Я всю жизнь мою встречал только плохих честных людей, – таких, знаете, у которых честность-то из кусочков составлена, точно они её под окнами насбирали, как нищие. Это – честность разноцветная, плохо склеенная, с трещинами… а то есть ещё честность книжная, вычитанная и служащая человеку, как его лучшие брюки, – для парадных случаев… Да и вообще всё хорошее у большинства хороших людей – праздничное и деланное; держат они его не в себе, а при себе, напоказ, для форса друг перед другом… Встречал я людей и по самой натуре своей хороших… но редко они встречаются и почти только среди простых людей, вне стен города… Этих сразу чувствуешь – хорош! И видишь – родился хорошим… да!
– А впрочем, чёрт с ними, со всеми – и с хорошими и с плохими! Знать я не хочу Гекубу!
– Я рассказываю вам факты жизни моей кратко и поверхностно, и вам трудно понимать – отчего и как… Да суть не в фактах, а – в настроениях. Факты – одна дрянь и мусор. Я могу много наделать фактов, если захочу… возьму вот нож, да и суну его вам в горло, – будет уголовный факт. А то ткну в себя этот нож – тоже факт будет… вообще, можно делать самые разнообразные факты, если настроение позволяет! Всё дело в настроениях: они плодят факты, и они творят мысли, идеалы… А знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних лапах. Подняв голову от земли, он увидал над ней голубое небо и был ослеплён великолепием его ясности.
Тогда он, по глупости, сказал себе: я достигну его! И с той поры он шляется по земле с этим костылём, держась при помощи его до сего дня всё ещё на задних лапах.
– Вы не подумайте, что и я тоже лезу на небо, – никогда не ощущал такого желания… я это так сказал, для красного словца.
– Однако история-то у меня опять в узел захлестнулась. Ничего! Ведь это только в романах клубки событий правильно развёртываются, а жизнь наша – запутанная мотушка. К тому же, за романы деньги платят, а я даром стараюсь: чёрт знает для чего!..
– Ну-с, так вот – понравилось мне это хождение, тем более понравилось, что скоро я открыл и средства к пропитанию. Иду однажды и вижу: вдали красуется усадьба, а навстречу мне двигаются, меж высоких хлебов, три благообразные фигуры – мужчина и две дамы. Мужчина уже с сединой в бороде, в очках и очень благообразный, дамы образа заморенного, но тоже благородного. Сделал я себе рожу страстотерпца и, поравнявшись с ними, попросил у них разрешения зайти в усадьбу ночевать. Разрешили и переглянулись между собой этак многозначительно. Я вежливо поклонился им, поблагодарил и, не торопясь, пошёл. А они повернули назад и – за мной. Вступили в разговор – кто, откуда, чей таков? Были они люди темперамента гуманного, образа мыслей либерального и ответы мне сами подсказывали, так что когда я пришёл в усадьбу, то оказалось, что наврал им – чёрт знает сколько! Будто бы я изучаю и поучаю народ, и якобы душа моя находится в плену разных идей и прочее такое… И, ей-богу, всё это оказалось потому только, что они сами хотели, я же лишь не препятствовал им принять меня за то, за что они меня принимали. Когда я сообразил, как трудна та роль, которую я должен был играть для них, мне стало немножко не по себе. Но после ужина понял, что играть эту роль – есть интерес, ибо божественно вкусно они ели! С чувством ели, – ели, как люди образованные. Потом отвели мне комнаточку, мужчина снабдил меня штанишками и прочим – вообще гуманно обошлись со мной. Ну, я им за это и распустил же вожжи моего воображения!
– Царица небесная, как я врал! Что Хлестаков? Идиот Хлестаков! Я врал, никогда не теряя сознания, что вру, хотя и наслаждался тем, как вру. Так я врал, скажу вам, что даже Чёрное море покраснело бы, если бы оно меня слышало! Эти добрые люди слушали с наслаждением, слушали и кормили меня, и ухаживали за мной, как за родным больным ребёнком.
А я им за это сочиняю. Вот когда пригодились мне книжки, которые я когда-то прочитал, и споры фарисеев жены моей!
– Врать умеючи – высокое наслаждение, скажу я вам. Если врёшь и видишь, что тебе верят, – чувствуешь себя приподнятым над людьми, а чувствовать себя выше людей – удовольствие всё-таки. Овладеть их вниманием и мыслить про себя: «дурачьё!» Одурачить человека всегда приятно. Да и ему, человеку-то, тоже приятно слышать хорошую ложь, которая гладит его по шёрстке. И, может быть, всякая ложь – хороша, или же, наоборот, всё хорошее – ложь. Едва ли на свете есть что-нибудь более стоящее внимания, чем разные людские выдумки: мечты, грёзы и прочее такое. К примеру, возьмём любовь: я всегда любил в женщинах как раз то, чего у них никогда не было и чем я обыкновенно сам же их награждал. Это и было лучшее в них. Бывало, видишь свежую бабёночку и сейчас же соображаешь – обнимать она должна так, целовать она должна – этак. Раздетая она такова, в слезах такая-то, в радости – вот какая.
Потом незаметно уверишь себя, что всё это у неё есть, – именно так есть, как ты того хочешь… И разумеется, по ознакомлении с нею, какова она есть на самом деле, торжественно садишься в лужу!.. Но это неважно – ведь нельзя же быть врагом огня только за то, что он иногда жжётся, нужно помнить, что он всегда греет, – так ли? Ну вот… По сей причине и ложь нельзя называть вредной, поносить её всячески, предпочитать ей истину… ещё неизвестно ведь – что она такое, эта истина, никто не видал её паспорта… и, может быть, она, по предъявлении документов, чёрт знает чем окажется…
– А всё-таки я, как Сократ, философствую, вместо того, чтобы делом заниматься…
– Врал я тем добрым людям даже до истощения фантазии и, когда сознал себя в опасности стать скучным для них, – ушёл далее, прожив у них три недели. Ушёл, хорошо снабжённый для пути, и вот направляю стопы мои к ближайшей станции, дабы от неё ехать до Москвы. От Москвы до Тулы доехал даром, по недосмотру кондукторов.
– И вот я в Туле перед лицом тамошнего полицмейстера. Смотрит он на меня и спрашивает: «Чем же вы здесь намерены заняться?» – «Не знаю», – говорю. «А за что, говорит, вас удалили из Петербурга?» – «Я и этого не знаю». – «Очевидно, говорит, за какие-нибудь дебоши, кодексом уголовным не предусмотренные?» – проницательно допрашивает он. Но я остаюсь непроницаем. «Неудобный вы человек», – говорит он. «У всякого, мол, своя специальность, господин хороший!» Подумал он, подумал, да и предлагает мне? «Так как вы, говорит, сами избирали место жительства, то, – если вам у нас не нравится, вы можете уйти дальше. Есть другие города, например, Орёл, Курск, Смоленск… Ведь вам всё равно, где жить? Не угодно ли, я выдам вам дальнейшее проходное?.. Нам очень приятно будет не беспокоиться о вашем здоровье. У нас такая масса хлопот… а вы, говорит, извините за откровенность, кажетесь человеком, вполне способным усилить хлопоты полиции… даже как бы нарочно для этой цели созданным». – «Так-с, мол, но мне и здесь нравится…» – «Ну, говорит, желаете, я вам трёшницу на дорогу дам?» – «Дёшево, мол, труды ваши цените… Уж лучше позвольте мне остаться под покровительством тульских законов». Но он меня упорно не хочет… Сообразительный был человек! Ну, я взял с него пятнадцать рублей да и пошёл в Смоленск город. Видите? Всякое скверное положение человека имеет в себе возможность лучшего. Это я говорю на основании солидного опыта и по силе моей глубокой веры в изворотливость человеческого ума. Ум – это силища! Вы человек молодой ещё; и вот я говорю вам: верьте в ум – и никогда не пропадёте! Знайте, что каждый человек содержит в себе дурака и мошенника: дурак – его чувство, а мошенник – ум. Чувство потому глупо, что оно прямо, правдиво и не умеет притворяться; а разве можно жить и не притворяться? Необходимо притворяться; даже из жалости к людям это нужно, потому что люди всегда жалости достойны… а больше всего именно тогда, когда они других жалеют…
– Итак, пошёл я в Смоленск, чувствуя, что тверда земля подо мной, и зная, что, с одной стороны, я всегда могу рассчитывать на поддержку гуманных людей, с другой – на поддержку полиции. Первым я нужен для проявления их чувств, а вторым – я не нужен; поэтому те и другие должны платить мне от избытков своих.
– Явился в Смоленск, и так как уже было холодно, то решил зазимовать. Живо нашёл добрых людей и к ним пристроился. Ничего себе, – провёл зиму не скучно. Но вот настала весна, и – верите ли? – потянуло меня! Хочется бродяжить… Кто мне мешает? Пошёл и снова шлялся целое лето, а на зиму попал в город Елизаветград. Попал и никак не могу присноровиться к чему-нибудь! Бился, бился, наконец, нашёл мой путь! В репортёры местной газеты завербовался, – дело маленькое, но свободное и даёт некоторый корм. Потом познакомился с юнкерами – есть в этом городе кавалерийское училище – и, познакомившись с ними, устроил картёж. Хороший картёж вышел: за зиму-то я около тысячи рублей наколотил. И вновь весна пришла. Она застала меня с деньгами, в джентльменском виде.
– Куда пойду? В город Славянск на воды. Там удачно играл до августа, а в этом месяце принужден был выехать. Зимовал в Житомире с одной бабочкой – порядочная дрянь была, но – бесподобной красоты баба!
– Прожил я таким манером года́ моего изгнания из Питера и поехал туда вновь. Чёрт его знает почему, но он всегда тянул меня к себе. Приехал джентльменом, со средствами.
Отыскиваю знакомых, и что же оказывается? Похождения мои среди либеральных людей Московской губернии им известны. Всё знают: и как я у Ивановых в усадьбе три недели жил, питая их голодные души плодами моей фантазии, и как я с Петровыми поступил, и как я m-me Васильеву изобидел. Ну что же? Стало быть, так нужно. Если семь дверей закрылись перед тобой – открывай другие десять… Но – не повезло мне! Очень я старался о том, чтобы создать себе устойчивое положение в обществе, и не мог! Не то я сам за эти три года утратил мою способность уживаться с людьми, не то люди стали за это время более пройдохами. И вот, когда мне пришлось особенно туго, дёрнул меня чёрт предложить мои услуги сыскному отделению. Предложил я себя в качестве агента по надзору за игорными домами. Приняли.
Условия хорошие. К сей тайной профессии присоединил ещё явную: стал заниматься репортажем в одной газетине. Давал ей уличную хронику, а иногда сочинял и фельетоны. А потом играл. И увлёкся я этой игрой, – до того увлёкся, что доносить-то о ней по начальству и забыл.
Совершенно забыл, знаете, что это есть моя обязанность. И когда проиграюсь, вспомню: а ведь надо донести! Но нет, думаю себе, сначала отыграюсь, а потом донесу. Откладывал я, таким образом, исполнение обязанности очень долго, до поры, пока однажды меня на месте преступления за карточным столом не зацепила полиция. Конечно, осрамили меня полицейские публично, признав за своего. А на другой день позвали куда следует, сделали очень свирепое внушение, сказали мне, что у меня нет совсем совести, и выслали из столицы… опять выслали! Без права въезда в течение десяти лет.
– Шесть лет я путешествую и, ничего себе, не жалуюсь богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно… и разнообразно. В общем, это весёлая, птичья жизнь. Только зёрен иногда не хватает… но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей – это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы, – это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят, но – и в хороших гостиницах блохи водятся… Зато вы можете идти направо, налево, вперёд, назад, всюду, куда вас влечёт, а если не влечёт никуда, – запасись от мужика хлебом, – он добр и всегда даст, – запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь…
– Где я не был? Был в толстовских колониях и у московских купчих на кухнях кормился.
Живал в Киево-Печёрской лавре и на Новом Афоне. Был в Ченстохове и Муроме. Порой мне кажется, что всякую тропинку Российской империи уже второй раз попираю я стопами моими. И как только представится мне случай ремонтировать внешность – катну я за границу! В Румынию дёрну, а оттуда – все пути открыты. Ибо в России – уже скучно мне. И в ней – «всё, что мог, я уже совершил».
– Думаю, что, в самом деле, за эти шесть лет много я совершил. Сколько слов красивых наговорил я, какие чудеса рассказывал! Придёшь, знаете, в деревню, попросишься на ночлег и, когда тебя накормят, – заведёшь волынку своей фантазии! Может быть, я даже секты новые основал, ибо – много, очень много говорил от писания. А мужик к писанию чуток и на двух словах может построить такое новейшее вероучение, что – ах ты мне!.. А сколько сочинил я законов о наделах и переделах земли!.. Да, много влил я фантазии в жизнь.
– Да, вот так я и живу… Живу и верую; пожелай я осёдлости, и – будет! Ибо у меня есть ум и меня ценят бабы. Вот приду я в город Николаев и пойду в Николаевскую слободу, где живёт дочь одного николаевского солдата. Женщина она вдовая, красивая и зажиточная. Приду я и скажу ей: «Капочка! а ну-ка, топи баню! Омой меня и одень, аз же пребуду с тобой даже от луны и до луны». Она всё сейчас мне сделает… И если завела она без меня любовника себе – прогонит его. И я проживу у неё месяц и более – сколько захочу! Жил я у неё в третьем году два месяца зимы, в прошлом – даже три месяца… прожил бы всю зиму, если б она была поумнее, а то очень уж скучно с ней. Кроме своего огорода, который даёт ей до двух тысяч в год, знать ничего не хочет баба.
– А то пойду на Кубань, в станицу Лабинскую. Там есть казак Пётр Чёрный, и он меня считает святым человеком, – многие меня считают человеком праведной жизни. Многие простые и верующие люди говорят мне: «Возьми, батюшка, вот это и поставь свечу угоднику, когда будешь у него…» Я беру. Я ценю верующих людей и не хочу обидеть их гнусной правдой, сказав им, что на искреннюю лепту их не свечу для угодника, а табаку для себя я куплю…
– Есть также много прелести и в сознании своей отчуждённости от людей, в ясном понимании высоты и прочности той стены прегрешений против них, которую я сам свободно построил. И много сладкого и острого в постоянном риске быть разоблачённым. Жизнь – игра! Я ставлю на свою карту всё – то есть нуль – и всегда выигрываю… без риска проиграть что-нибудь иное, кроме жизни моей. Но я уверен, что, если меня когда-нибудь будут бить, – меня не изувечат, а убьют. На это нельзя обижаться, и было бы глупо этого бояться.
– Ну-с, так вот, молодой человек, я рассказал вам свою историю. И даже с походцем рассказал, ибо в моей истории была и философия. И – знаете? Мне нравится то, что я рассказал. Мне кажется, что я порядочно рассказал. Пойду дальше, – весьма вероятно, что я тут многое сочинил, но, ей-богу, если я наврал, – я наврал в фактах. Вы смотрите не на них, а на мой способ изложения – он, уверяю вас, с подлинным души моей верен. Я дал вам жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины…
– А впрочем, зачем я вам сказал это?.. Затем, дорогой мой, что чувствую я – вы мало верите мне… Рад за вас. Так! Не верьте человеку! Ибо всегда, когда он о себе рассказывает, – он лжёт! Лжёт в несчастии, чтоб возбудить к себе более сострадания, в счастии – чтоб ему более завидовали, во всех случаях – чтобы увеличить внимание к себе.
– А впрочем, чёрт с ними, со всеми – и с хорошими и с плохими! Знать я не хочу Гекубу!
– Я рассказываю вам факты жизни моей кратко и поверхностно, и вам трудно понимать – отчего и как… Да суть не в фактах, а – в настроениях. Факты – одна дрянь и мусор. Я могу много наделать фактов, если захочу… возьму вот нож, да и суну его вам в горло, – будет уголовный факт. А то ткну в себя этот нож – тоже факт будет… вообще, можно делать самые разнообразные факты, если настроение позволяет! Всё дело в настроениях: они плодят факты, и они творят мысли, идеалы… А знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних лапах. Подняв голову от земли, он увидал над ней голубое небо и был ослеплён великолепием его ясности.
Тогда он, по глупости, сказал себе: я достигну его! И с той поры он шляется по земле с этим костылём, держась при помощи его до сего дня всё ещё на задних лапах.
– Вы не подумайте, что и я тоже лезу на небо, – никогда не ощущал такого желания… я это так сказал, для красного словца.
– Однако история-то у меня опять в узел захлестнулась. Ничего! Ведь это только в романах клубки событий правильно развёртываются, а жизнь наша – запутанная мотушка. К тому же, за романы деньги платят, а я даром стараюсь: чёрт знает для чего!..
– Ну-с, так вот – понравилось мне это хождение, тем более понравилось, что скоро я открыл и средства к пропитанию. Иду однажды и вижу: вдали красуется усадьба, а навстречу мне двигаются, меж высоких хлебов, три благообразные фигуры – мужчина и две дамы. Мужчина уже с сединой в бороде, в очках и очень благообразный, дамы образа заморенного, но тоже благородного. Сделал я себе рожу страстотерпца и, поравнявшись с ними, попросил у них разрешения зайти в усадьбу ночевать. Разрешили и переглянулись между собой этак многозначительно. Я вежливо поклонился им, поблагодарил и, не торопясь, пошёл. А они повернули назад и – за мной. Вступили в разговор – кто, откуда, чей таков? Были они люди темперамента гуманного, образа мыслей либерального и ответы мне сами подсказывали, так что когда я пришёл в усадьбу, то оказалось, что наврал им – чёрт знает сколько! Будто бы я изучаю и поучаю народ, и якобы душа моя находится в плену разных идей и прочее такое… И, ей-богу, всё это оказалось потому только, что они сами хотели, я же лишь не препятствовал им принять меня за то, за что они меня принимали. Когда я сообразил, как трудна та роль, которую я должен был играть для них, мне стало немножко не по себе. Но после ужина понял, что играть эту роль – есть интерес, ибо божественно вкусно они ели! С чувством ели, – ели, как люди образованные. Потом отвели мне комнаточку, мужчина снабдил меня штанишками и прочим – вообще гуманно обошлись со мной. Ну, я им за это и распустил же вожжи моего воображения!
– Царица небесная, как я врал! Что Хлестаков? Идиот Хлестаков! Я врал, никогда не теряя сознания, что вру, хотя и наслаждался тем, как вру. Так я врал, скажу вам, что даже Чёрное море покраснело бы, если бы оно меня слышало! Эти добрые люди слушали с наслаждением, слушали и кормили меня, и ухаживали за мной, как за родным больным ребёнком.
А я им за это сочиняю. Вот когда пригодились мне книжки, которые я когда-то прочитал, и споры фарисеев жены моей!
– Врать умеючи – высокое наслаждение, скажу я вам. Если врёшь и видишь, что тебе верят, – чувствуешь себя приподнятым над людьми, а чувствовать себя выше людей – удовольствие всё-таки. Овладеть их вниманием и мыслить про себя: «дурачьё!» Одурачить человека всегда приятно. Да и ему, человеку-то, тоже приятно слышать хорошую ложь, которая гладит его по шёрстке. И, может быть, всякая ложь – хороша, или же, наоборот, всё хорошее – ложь. Едва ли на свете есть что-нибудь более стоящее внимания, чем разные людские выдумки: мечты, грёзы и прочее такое. К примеру, возьмём любовь: я всегда любил в женщинах как раз то, чего у них никогда не было и чем я обыкновенно сам же их награждал. Это и было лучшее в них. Бывало, видишь свежую бабёночку и сейчас же соображаешь – обнимать она должна так, целовать она должна – этак. Раздетая она такова, в слезах такая-то, в радости – вот какая.
Потом незаметно уверишь себя, что всё это у неё есть, – именно так есть, как ты того хочешь… И разумеется, по ознакомлении с нею, какова она есть на самом деле, торжественно садишься в лужу!.. Но это неважно – ведь нельзя же быть врагом огня только за то, что он иногда жжётся, нужно помнить, что он всегда греет, – так ли? Ну вот… По сей причине и ложь нельзя называть вредной, поносить её всячески, предпочитать ей истину… ещё неизвестно ведь – что она такое, эта истина, никто не видал её паспорта… и, может быть, она, по предъявлении документов, чёрт знает чем окажется…
– А всё-таки я, как Сократ, философствую, вместо того, чтобы делом заниматься…
– Врал я тем добрым людям даже до истощения фантазии и, когда сознал себя в опасности стать скучным для них, – ушёл далее, прожив у них три недели. Ушёл, хорошо снабжённый для пути, и вот направляю стопы мои к ближайшей станции, дабы от неё ехать до Москвы. От Москвы до Тулы доехал даром, по недосмотру кондукторов.
– И вот я в Туле перед лицом тамошнего полицмейстера. Смотрит он на меня и спрашивает: «Чем же вы здесь намерены заняться?» – «Не знаю», – говорю. «А за что, говорит, вас удалили из Петербурга?» – «Я и этого не знаю». – «Очевидно, говорит, за какие-нибудь дебоши, кодексом уголовным не предусмотренные?» – проницательно допрашивает он. Но я остаюсь непроницаем. «Неудобный вы человек», – говорит он. «У всякого, мол, своя специальность, господин хороший!» Подумал он, подумал, да и предлагает мне? «Так как вы, говорит, сами избирали место жительства, то, – если вам у нас не нравится, вы можете уйти дальше. Есть другие города, например, Орёл, Курск, Смоленск… Ведь вам всё равно, где жить? Не угодно ли, я выдам вам дальнейшее проходное?.. Нам очень приятно будет не беспокоиться о вашем здоровье. У нас такая масса хлопот… а вы, говорит, извините за откровенность, кажетесь человеком, вполне способным усилить хлопоты полиции… даже как бы нарочно для этой цели созданным». – «Так-с, мол, но мне и здесь нравится…» – «Ну, говорит, желаете, я вам трёшницу на дорогу дам?» – «Дёшево, мол, труды ваши цените… Уж лучше позвольте мне остаться под покровительством тульских законов». Но он меня упорно не хочет… Сообразительный был человек! Ну, я взял с него пятнадцать рублей да и пошёл в Смоленск город. Видите? Всякое скверное положение человека имеет в себе возможность лучшего. Это я говорю на основании солидного опыта и по силе моей глубокой веры в изворотливость человеческого ума. Ум – это силища! Вы человек молодой ещё; и вот я говорю вам: верьте в ум – и никогда не пропадёте! Знайте, что каждый человек содержит в себе дурака и мошенника: дурак – его чувство, а мошенник – ум. Чувство потому глупо, что оно прямо, правдиво и не умеет притворяться; а разве можно жить и не притворяться? Необходимо притворяться; даже из жалости к людям это нужно, потому что люди всегда жалости достойны… а больше всего именно тогда, когда они других жалеют…
– Итак, пошёл я в Смоленск, чувствуя, что тверда земля подо мной, и зная, что, с одной стороны, я всегда могу рассчитывать на поддержку гуманных людей, с другой – на поддержку полиции. Первым я нужен для проявления их чувств, а вторым – я не нужен; поэтому те и другие должны платить мне от избытков своих.
– Явился в Смоленск, и так как уже было холодно, то решил зазимовать. Живо нашёл добрых людей и к ним пристроился. Ничего себе, – провёл зиму не скучно. Но вот настала весна, и – верите ли? – потянуло меня! Хочется бродяжить… Кто мне мешает? Пошёл и снова шлялся целое лето, а на зиму попал в город Елизаветград. Попал и никак не могу присноровиться к чему-нибудь! Бился, бился, наконец, нашёл мой путь! В репортёры местной газеты завербовался, – дело маленькое, но свободное и даёт некоторый корм. Потом познакомился с юнкерами – есть в этом городе кавалерийское училище – и, познакомившись с ними, устроил картёж. Хороший картёж вышел: за зиму-то я около тысячи рублей наколотил. И вновь весна пришла. Она застала меня с деньгами, в джентльменском виде.
– Куда пойду? В город Славянск на воды. Там удачно играл до августа, а в этом месяце принужден был выехать. Зимовал в Житомире с одной бабочкой – порядочная дрянь была, но – бесподобной красоты баба!
– Прожил я таким манером года́ моего изгнания из Питера и поехал туда вновь. Чёрт его знает почему, но он всегда тянул меня к себе. Приехал джентльменом, со средствами.
Отыскиваю знакомых, и что же оказывается? Похождения мои среди либеральных людей Московской губернии им известны. Всё знают: и как я у Ивановых в усадьбе три недели жил, питая их голодные души плодами моей фантазии, и как я с Петровыми поступил, и как я m-me Васильеву изобидел. Ну что же? Стало быть, так нужно. Если семь дверей закрылись перед тобой – открывай другие десять… Но – не повезло мне! Очень я старался о том, чтобы создать себе устойчивое положение в обществе, и не мог! Не то я сам за эти три года утратил мою способность уживаться с людьми, не то люди стали за это время более пройдохами. И вот, когда мне пришлось особенно туго, дёрнул меня чёрт предложить мои услуги сыскному отделению. Предложил я себя в качестве агента по надзору за игорными домами. Приняли.
Условия хорошие. К сей тайной профессии присоединил ещё явную: стал заниматься репортажем в одной газетине. Давал ей уличную хронику, а иногда сочинял и фельетоны. А потом играл. И увлёкся я этой игрой, – до того увлёкся, что доносить-то о ней по начальству и забыл.
Совершенно забыл, знаете, что это есть моя обязанность. И когда проиграюсь, вспомню: а ведь надо донести! Но нет, думаю себе, сначала отыграюсь, а потом донесу. Откладывал я, таким образом, исполнение обязанности очень долго, до поры, пока однажды меня на месте преступления за карточным столом не зацепила полиция. Конечно, осрамили меня полицейские публично, признав за своего. А на другой день позвали куда следует, сделали очень свирепое внушение, сказали мне, что у меня нет совсем совести, и выслали из столицы… опять выслали! Без права въезда в течение десяти лет.
– Шесть лет я путешествую и, ничего себе, не жалуюсь богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно… и разнообразно. В общем, это весёлая, птичья жизнь. Только зёрен иногда не хватает… но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей – это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы, – это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят, но – и в хороших гостиницах блохи водятся… Зато вы можете идти направо, налево, вперёд, назад, всюду, куда вас влечёт, а если не влечёт никуда, – запасись от мужика хлебом, – он добр и всегда даст, – запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь…
– Где я не был? Был в толстовских колониях и у московских купчих на кухнях кормился.
Живал в Киево-Печёрской лавре и на Новом Афоне. Был в Ченстохове и Муроме. Порой мне кажется, что всякую тропинку Российской империи уже второй раз попираю я стопами моими. И как только представится мне случай ремонтировать внешность – катну я за границу! В Румынию дёрну, а оттуда – все пути открыты. Ибо в России – уже скучно мне. И в ней – «всё, что мог, я уже совершил».
– Думаю, что, в самом деле, за эти шесть лет много я совершил. Сколько слов красивых наговорил я, какие чудеса рассказывал! Придёшь, знаете, в деревню, попросишься на ночлег и, когда тебя накормят, – заведёшь волынку своей фантазии! Может быть, я даже секты новые основал, ибо – много, очень много говорил от писания. А мужик к писанию чуток и на двух словах может построить такое новейшее вероучение, что – ах ты мне!.. А сколько сочинил я законов о наделах и переделах земли!.. Да, много влил я фантазии в жизнь.
– Да, вот так я и живу… Живу и верую; пожелай я осёдлости, и – будет! Ибо у меня есть ум и меня ценят бабы. Вот приду я в город Николаев и пойду в Николаевскую слободу, где живёт дочь одного николаевского солдата. Женщина она вдовая, красивая и зажиточная. Приду я и скажу ей: «Капочка! а ну-ка, топи баню! Омой меня и одень, аз же пребуду с тобой даже от луны и до луны». Она всё сейчас мне сделает… И если завела она без меня любовника себе – прогонит его. И я проживу у неё месяц и более – сколько захочу! Жил я у неё в третьем году два месяца зимы, в прошлом – даже три месяца… прожил бы всю зиму, если б она была поумнее, а то очень уж скучно с ней. Кроме своего огорода, который даёт ей до двух тысяч в год, знать ничего не хочет баба.
– А то пойду на Кубань, в станицу Лабинскую. Там есть казак Пётр Чёрный, и он меня считает святым человеком, – многие меня считают человеком праведной жизни. Многие простые и верующие люди говорят мне: «Возьми, батюшка, вот это и поставь свечу угоднику, когда будешь у него…» Я беру. Я ценю верующих людей и не хочу обидеть их гнусной правдой, сказав им, что на искреннюю лепту их не свечу для угодника, а табаку для себя я куплю…
– Есть также много прелести и в сознании своей отчуждённости от людей, в ясном понимании высоты и прочности той стены прегрешений против них, которую я сам свободно построил. И много сладкого и острого в постоянном риске быть разоблачённым. Жизнь – игра! Я ставлю на свою карту всё – то есть нуль – и всегда выигрываю… без риска проиграть что-нибудь иное, кроме жизни моей. Но я уверен, что, если меня когда-нибудь будут бить, – меня не изувечат, а убьют. На это нельзя обижаться, и было бы глупо этого бояться.
– Ну-с, так вот, молодой человек, я рассказал вам свою историю. И даже с походцем рассказал, ибо в моей истории была и философия. И – знаете? Мне нравится то, что я рассказал. Мне кажется, что я порядочно рассказал. Пойду дальше, – весьма вероятно, что я тут многое сочинил, но, ей-богу, если я наврал, – я наврал в фактах. Вы смотрите не на них, а на мой способ изложения – он, уверяю вас, с подлинным души моей верен. Я дал вам жаркое из фантазии под соусом из чистейшей истины…
– А впрочем, зачем я вам сказал это?.. Затем, дорогой мой, что чувствую я – вы мало верите мне… Рад за вас. Так! Не верьте человеку! Ибо всегда, когда он о себе рассказывает, – он лжёт! Лжёт в несчастии, чтоб возбудить к себе более сострадания, в счастии – чтоб ему более завидовали, во всех случаях – чтобы увеличить внимание к себе.